| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Дискуссии по киносемиотике / / Проблема значения в кино |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 7 8 9 ...... 23 24 25 26 Next>> |
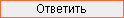
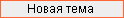
|
| Автор | Сообщение |
|
Охрим Замудохович Гость |
Добавлено: 06-10-2005 22:31 |
|
Вы, Валька, нос-то не задирайте. Знайте, с кем себя ровняете! Нашли тоже занятие – "тыкать" Xandrov'у. Вы же, чай, не кабельщик какой безмозгло-невоспитанный, чай не в заплеванной парадной находитесь… Вот в Игротеке – другое дело. Всяк сверчок знай свой шесток, паря! Я так скажу. Вот сейчас по Культуре идет фильм про Станиславского. Вот сколько его умнейших людей окружало, а Константин Сергеич печалится, что "систему" его понимают только полтора человека, его помощник Сулержицкий, и наполовину – Вахтангов. Вот то же сейчас и с Киносемиотикой. Понимает ее только сам Xandrov. Ну и может все мы вместе – наполовину… А больше пока - никто. Время ее еще не пришло. А вообще, господа, гляньте сегодня хоть последнюю серию этого фильма про Станиславского в 00.20 по каналу Культура. Думаю, не пожалеете! Лишний раз убедитесь в том, что только в нашей сторонке не ценят ум, да талант, да честь, да совесть. Все, как дворовые собачки "тыкают" друг дружке, да под себя других ровняют. Шпанское поколение… Посмотрите, как нашего соотечественника, столько здесь мучившегося, чтут на Западе! |
|
|
Викентий МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Директор 'Игротеки' Сообщений: 181 
|
Добавлено: 06-10-2005 22:52 |
|
Охрим, это как понимать: "чай не в заплеванной парадной находитесь… Вот в Игротеке – другое дело"? Я, Вам, понимаете, пива больше других наливал (по секрету: за счет высокомерного Gubrina, и этого пивного маньяка-малолетки Вальки), и вот Вы сравнили мое богоугодное заведение с нечистой парадной! Не потерплю! Извольте разъясниться!!! |
|
|
xandrov МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Участник Сообщений: 565 
|
Добавлено: 07-10-2005 23:52 |
|
Так вот, Спилберг показал на примере множества взрослых, расстреливаемых "на глазах зрителей", людей то, что случилось с девочкой. И, собственно, достаточно пары секунд для показа ее пальто, лежащего в общей груде одежд убиенных, чтобы зритель понял: девочку постигла та же участь, что и участь виденных им "до того" взрослых. Но почему же режиссер продолжает длить и длить кадр с этим самым детским пальто, почему не переходит к следующему эпизоду? Да потому, что он не хочет просто констатировать смерть девочки. Он хочет, чтобы зритель вообразил, почувствовал обстоятельства детской смерти, и он ЗНАЕТ, что если мозг в этот десяток-другой не занят восприятием последующего эпизода, то есть, если в эти секунды на экране длится некое уже понятое зрителем изображение, он (мозг) автоматически рисует на своем внутреннем экране ту, непоказанную (но лишь означенную тем пальтецом) предыдущую сцену. И вот что исключительно важно: каждый зритель фантазирует эту сцену по-разному, в зависимости от своего собственного жизненного опыта и степени развитости его воображения (думаю, понятно, что бывавший в такого рода ситуациях человек вообразит-вспомнит много больше, чем дошкольник). Потому-то и получается, что в эти секунды каждый зритель смотрит свое собственное кино. И верит этому "кино" больше, чем самому обстоятельному показу самого обстоятельного режиссера, потому что больше всего он верит… - самому себе. Потому-то так дороги в фильме вот эти моменты, когда зритель в своем собственном мозгу творит свое собственное кино. Сумма таких моментов у талантливого режиссера всегда больше, чем у того, который тщится показать на экране "всё и вся". Показать "всё и вся" в принципе невозможно – всегда что-то остается "за кадром", и превратить это закадровое кино в мозговое зрительское – вот подлинная задача режиссера, и одна из важнейших "тайн" режиссуры. |
|
|
Николай Гость |
Добавлено: 08-10-2005 03:43 |
| Легко написать: "в эти секунды на экране длится некое уже понятое зрителем изображение"! "Понятое зрителем" – теоретически понятно: понял и принялся "фантазировать"… А при реальном просмотре как? Один уже понял, а другой – тугодум – ничего еще не понял. Сколько же должен длиться такой кадр? | |
|
xandrov МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Участник Сообщений: 565 
|
Добавлено: 09-10-2005 02:04 |
|
Длина этого кадра определяется режиссером, так сказать, по его личному практическому опыту. Но все равно в любом фильме какой-то зритель что-то недовообразит, другой, что-то недосмотрит, третий что-то недослышит… Разве Вы никогда не ловили себя на просмотре, что Вы вот в эту секунду вовсе не заняты тем, что происходит на экране, а решаете проблемы взаимоотношений персонажей, возникших пару-тройку эпизодов назад? Но в общем, чем мастеровитее режиссер, тем правильнее определяет он длину таких вот "нейтральных по содержанию" кадров, выполняя задачу – разбудить фантазию каждого зрителя. Альфред Хичкок был изощренным Мастером на такие кадры, с их помощью он строил свой знаменитый "саспенс" – нагнетание ужаса. Вот в фильме "Психо" в сцене, где принимает душ девушка: меняется свет на душевой полиэтиленовой прозрачной занавеске, и сквозь нее видно, как в душевую входит некто (по своим смутным очертаниям, то есть, ЗНАКАМ это – человек), медленно идет к занавеске, останавливается перед нею, и резким движением отдергивает занавеску – лицо вошедшего в тени, но намерения его ясны: в руке у него огромный кухонный нож. Кадр этот длится примерно 13 секунд, и еще до возникновения на экране реального ножа, во время только того тревожно-выжидательного подхода (то есть, секунд за 5-7) особо впечатлительный зритель такие немыслимо ужасные сцены нафантазирует, что и снятое самим Хичкоком покажется ученической бездарностью. А если бы режиссер снял просто: в двери душевой показывается человек и… сразу ножевые удары! Так ведь тоже можно. Но если не будет вот тех, как бы "пустых" 5-7 секунд надвигания незнакомца через занавеску, тогда бы зритель увидел только версию режиссера и все. Вот в этом и фокус – фокус возбуждения фантазии зрителя, приглашения его в экранное сотворчество с режиссером. Ведь, в конце концов и фильм – фантазия, только фантазия авторов фильма. Вот и сталкиваются во время демонстрации фильма множество (по числу зрителей плюс авторы) фантазий. То же самое и с тем кадром тянущихся подвод с одеждой убитых в "Списке Шиндлера". Уже все ясно, а изображение все длится, длится… в эти секунды оно отдано во власть зрительской фантазии… И если бы иметь особый "фантазиметр", позволяющий одновременно увидеть в пространстве зрительного зала все эти витающие там фантазии… представляю, какое это было бы ФАНТАСТИЧЕСКОЕ зрелище сталкивающихся, переплетающихся, сливающихся индивидуальных фантазий. Впрочем, в случае надвигающегося (как в "Психо") или только что прошедшего (как в "Списке Шиндлера") экранного убийства это была бы такая вселенская жуть… Естественно, не все зрители фантазируют глубоко и интересно, но – чем сильнее (или слабее) этот эффект, оказываемый фильмом на данного зрителя, тем интересней (или скучнее) покажется данному зрителю сам фильм – фильм, сочиненный в своем мозгу им самим. А что же тогда такое мы видим на экране? Да – ЗНАКИ, ЗНАКИ, ЗНАКИ, ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ, стимулирующие собственное зрительское воображение. Больше – ничего? Или вы все еще уверены, что на экране ходят настоящие люди, совершают реальные поступки, реально крошат друг друга кухонными ножами? Да нет же! – перед вами ЗНАКИ людей, ЗНАКИ поступков, ЗНАКИ убийств… Право, мы же не малые дети, чтобы принимать ЗНАКОВО сотворенное за действительно существующее вот сейчас на экране. Тут вся тайна о ЗНАКОВОЙ природе фильма и есть. |
|
|
xandrov МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Участник Сообщений: 565 
|
Добавлено: 10-10-2005 01:16 |
|
Давно известно, что кино вбирает в себя нужные ему художественные элементы из других искусств. Ну-с, а есть какие-то аналогии кинематографическому "полю зрительского воображения" в литературе? Я не о том, что, собственно, сам процесс чтения есть фантазийный перевод графических ЗНАКОВ в ЗНАКИ визуальные и слуховые, то есть буквенных слов в зрительные и слуховые представления. Скажем, написано: "Наташа Ростова" – и каждому зрителю предстоит нафантазировать себе эту Наташу в меру своего ума, чувства и воображения. Я о том, как обычными, в общем-то, словами строит Толстой "картинку" всего происходящего в романе. И как возбуждает в читателе это самое "поле воображения". Давно подмечено, что Лев Николаевич необычайно кинематографичен в своем письме. Нет, не в том (хотя и в том тоже!), чтобы "кинематографически" перепутать времена, лица и реплики, как это и по сей день, выдавая за свое открытие, кропают "современные" писатели. А именно в том, как гениально раскрывает он в мозгах своих читателей само течение описываемых событий, незаметно вовлекая читателей в процесс их индивидуального фантазирования. Цитировать Толстого очень любил наш кинорежиссер-классик Всеволод Илларионович Пудовкин. Сделаем и мы то же, но под нашим "киносемиотическим углом". Итак: "…по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: "левой… левой… левой". Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст при дороге; отставший солдат, запыхавшись, с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту; ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты и в такт: "левой – левой!" ударилось в колонну. "Сомкнись!" – послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили…" (Вот остановимся здесь (СДЕЛАЕМ ЭТО ЧЕСТНО, ТО ЕСТЬ, НЕ ЗАГЛЯДЫВАЯ В ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИТАТЫ) и "продолжим" от себя эту фразу Толстого. Сколько раз я предлагал сделать это людям разной "степени" кинематографичности даже не раз читавшим роман, ответы всегда содержали "картинку" удара ядра о землю, тел убитых, крики и корчи раненых и пр. и др. – то есть нечто конкретно-представимое, реальное, вещное… Попробуйте и вы, но у гениального Толстого все равно – не так! У него:) "Солдаты дугой обходили что-то (именно: ЧТО-ТО! Улавливаете различие? - xandrov) в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнул, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. "Левой… левой… левой…" – казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног". Вот это "что-то" и есть самое гениальное во всем этом описании выхода русской колонны на позицию для атаки на французов. Это, как бы неопределенное "что-то" (думаю, также понятно, что это – классический "общий план", в котором детали не видны), как раз и подключает – мгновенно" - к описываемому зрительское воображение. Каждому читателю своё – индивидуальное. Вот то самое, зажигающее конкретику увиденного внутренним читательским взором, то самое, что содержится в вышеприведенных ответах на предложение продлить фразу: "Солдаты дугой обходили…". Потом, через строчку, Толстой упомянет и убитых, и сердитый взгляд унтера, но сначала у него идет вот это – "что-то". Вот так Лев Николаевич создает литературное "поле воображения". Толстой, если его правильно – "кинематографически" – читать дает такое множество киносемиотических средств – только успевай увидеть! |
|
|
xandrov МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Участник Сообщений: 565 
|
Добавлено: 10-10-2005 19:04 |
|
А вот вам абсолютно кинематографический кусок из толстовского рассказа "После бала" (это финальный эпизод, когда рассказчик еще находился под сильным впечатлением от светского бала, на котором он был два часа назад): "Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. "Что это такое?" – подумал я и по проезженной посередине поля дороге скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. "Верно, ученье", - подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади них стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли все ту же неприятную, визгливую мелодию. - Что они делают? – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною. - Татарина гоняют за побег, - сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его… Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад – и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда я был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: "Братцы, помилосердуйте. Братцы помилосердуйте". Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека. - О Господи, проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. - Я тебе покажу, - услыхал я его гневный голос. Будешь мазать? Будешь? И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина… …Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: "Братцы, помилосердуйте", то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника: "Будешь мазать? Будешь?". А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидал опять все и вскочил". Это финал такой художественной – визуально-звуковой - силы, что его нельзя так вот просто сразу и начать анализировать. Сделаем это в следующий раз. Пока только отметим, что интересующее нас "что-то" встречается здесь дважды. |
|
|
Nikia3410 Гость |
Добавлено: 11-10-2005 19:10 |
|
Если б я был звукорежиссером, я бы Льва Толстого читал именно под этим углом. Чудо-занятие! У Толстого всегда не только видишь происходящее, но и слышишь его. И точно так же, как в видимое, втягиваешься в его слышимое пространство. Вот, взять, это: "При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда я был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: "Братцы, помилосердуйте. Братцы помилосердуйте". Как это точно: сначала рассказчик говорит про слова татарина, что они – "какие-то". Он не знает, какие именно, потому что татарин от него еще далеко, и только когда татарина подводят ближе, рассказчик различает это "Братцы, помилосердуйте". Здесь ведь тоже присутствует это "что-то" – татарин "что-то" говорил, неслышимое рассказчику. Звукорежиссура самой высокой пробы. |
|
|
Гость 1 Гость |
Добавлено: 11-10-2005 23:16 |
|
Хорошо ввернул Xandrov в теме "Проблема значения в кино" концовку рассказа Толстого "После бала". Однако и в теме "АРТХАУС И МЭЙНСТРИМ" есть что сказать в связи с тем рассказом. Не знаю почему, но по прочтении вот этого: "я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное" – я почему-то вспомнил "черный квадрат" Малевича. Я подумал: вот сторонники Малевича говорят, что если смотреть на "квадрат" 20 минут, то в нем та-а-кое увидишь… и тем, мол, "квадрат", а с ним и неистовый Казимир, - оба гениальны на весь век авангардизма. Только вот возьми Толстой да остановись на этой фразе: "я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное" - и все! Дальше пусть сам читатель додумает что-нибудь "та-а-кое", что ему в голову лично взбредет. И не было бы гениального рассказа "После бала". Даже если бы кому-то и взбрела в голову картина экзекуции (а с какой стати взбрела бы? - если бы ее там, в мозгу, заранее не было), то все остальные читатели всего мира оказались бы обделенными в своем историческом знании, как совершались наказания в России XIX века. Потерялся бы еще один исторически-бытийный кусочек того времени, как наверняка потерялось великое множество деталей, черт, поступков, событий, характеров, никем не описанных в то время и нам уж неизвестных. А то малое количество чувственной реальности прошедших веков, сохранилось только благодаря особым людям – историкам, писателям, живописцам, мемуаристам – хранителям живой человеческой памяти. А сейчас сколько пропадает? Что останется после авангардистов? Хаос их личных ощущений? Ладно, согласен, что и это важно, если хаос все-таки своих личных ощущений, а не слепое обезьянье подражание Кандинскому и Малевичу. Но мир-то, мир, как он развертывается перед нами в своей реальной вещности – где будет тогда этот мир? Да где и был – в произведениях всегдашних художников-реалистов. Только почему-то искусство реалистов не считается в наше время современным. Почему-то современными считаются те, кто ведет нас в примитивное прошлое. Вот с каким-то благоговением смотрят на абстрактные картины Джексона Поллока, и восхищенно говорят, что он изобрел новую манеру живописания – пользоваться кистью, как постоянно кружащимся стеком, с которого краска просто капает на полотно. Представляю себе, сколько ума потребовалось первобытному художнику, (который именно так поначалу и "рисовал" – щепкой, заостренной палочкой, с которой краска порой стекала прямо на "картину"), чтобы изобрести живописную кисть, сколько материалов было истрачено на подбор волосяной части этой кисти, которая вбирает в себя краску и наносит тончайшие мазки. Ведь на это ушли века человеческой мысли и экспериментальной практики. И вот приходят эти и льют краску прямо из банок, водят по полотну пальцами, ногами, собственными задницами, и при этом считаются самыми передовыми авангардистами! Художниками!! Ну сами эти "деятели" не совсем здоровы (Поллок что ли был "в себе", если мочился в камины на светских раутах?!), а вот те прекрасно одетые, холеные, высоко-культурные "джентльмены" и "леди", которые ходят по авангардным выставкам, восхищенно лупят глаза на весь этот ясно видимый откат цивилизации к ее первобытно-животному состоянию, коллекционируют за дикие деньги этот хаос… Вот с ними-то что?! Вот их-то точно надо – под руки и к психиатру. А они – они… открывают новые салоны, устраивают умопомрачительные по ценам аукционы, учат молодежь что и как надо творить в искусстве. Тьма египетская – торжество банкирского плебейства во фраках, сон разума и художественного вкуса. Талибы, видите ли, – варвары, поскольку взрывали древние памятники в Афганистане! А Малевич не форменный разрушитель, не враг цивилизации и всего человечества, когда, будучи в должности большевистского Комиссара, призывал вслед за итальянским футуристом, а впоследствии фашистом Маринетти, вынести из музеев на свалку классическую живопись?! Малевичу сегодня – слава, слава, слава!!! И психически больному примату Поллоку – слава! И адепту доллара, фетишизма и саморекламы Уорхолу – слава и вечная память! А русские "передвижники" – социальный натурализм, пережиток прошлого! А Толстой – вообще закрытая книга!! Слава Сорокину, Лукьяненко, Пригову!!! Премию (какую рука дающего ухватит, только не за кинорежиссуру) международному художественному деятелю Сокурову – благостно присутствовавшему при "торжественном" открытии постоянной экспозиции "Черного квадрата" в… ЭРМИТАЖЕ!!!!!!!!!! Бес таскает на веревке "современное" искусство. Иначе не объяснить. |
|
|
Случайный прохожий Гость |
Добавлено: 12-10-2005 13:09 |
Да что Вам бедолагам этот Малевич покоя не даёт??!! Восхищайтесь Ренуаром, Моне, Суриковым, Репиным и т.д. Вот она, черта современных "интеллектуалов" - своё "фи" вставлять по поводу и без. Тот плохой, этот. Так сами возьмите кисть, и одарите человечество новым шедевром! Зачем дело стало? Они бедные уже всех в гробах перекрутились, а Сокурову ежечастно икается поди. Пишите, снимайте, рисуйте, фотографируйте, ре-али-зо-вы-вай-тесь! и всё будет здорово и замечательно. |
|
|
xandrov МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Участник Сообщений: 565 
|
Добавлено: 12-10-2005 23:02 |
|
"Да что Вам бедолагам этот Малевич покоя не даёт??!! Восхищайтесь Ренуаром, Моне, Суриковым, Репиным и т.д. Вот она, черта современных "интеллектуалов" - своё "фи" вставлять по поводу и без. Тот плохой, этот. Так сами возьмите кисть, и одарите человечество новым шедевром! Зачем дело стало? Они бедные уже всех в гробах перекрутились, а Сокурову ежечастно икается поди. Пишите, снимайте, рисуйте, фотографируйте, ре-али-зо-вы-вай-тесь! и всё будет здорово и замечательно". А Ваше "фи" идет от истинной интеллектуальности (без кавычек)? Или от слепоты? Мы же Толстым восхищаемся - на ваших глазах! И еще очень, очень, очень многими. Почитайте наши страницы. Не заметили? Читать не любите, не умеете??– бедолага… Присоединяйтесь к дискуссии по существу, пишите по делу, о семиотике, а не по желанию влезть в чужой разговор и вставить свое "фи", чтобы ре-али-зо-вать пустопорожнее любопытство. Случайные прохожие здесь ни к чему… И попробуйте обойтись без орфографических ошибок. Это – грязь! Это… – "фи". Вот тогда "всё будет здорово и замечательно". |
|
|
Наталья Гость |
Добавлено: 13-10-2005 01:24 |
|
Ой, мальчики, какой у вас разговор про Толстого интересный. Подключаюсь! По этому толстовскому "что-то" вот что я припомнила, а сейчас выписала из "Войны и митра": "Над мостом уже пролетели два неприятельских ядра, и на мосту была давка. В середине моста, слезши с лошади, прижатый своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий… Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, шумные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябея и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные живые волны солдат, кутас, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно-усталыми выражениями и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как вбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался офицер в плаще, с своей отличною от солдат физиономией; иногда, как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель; иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон, проплывала по мосту ротная или офицерская , наложенная доверху и прикрытая рогожами, повозка. - Вишь, их, как плотину, прорвало, - безнадежно останавливаясь, говорил казак. - Много ль еще там? - Мелион без одного! – подмигивая говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат и скрывался; за ним проходил другой, старый солдат. - Как он (он – неприятель) таперича по мосту примется зажаривать, - говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу, - забудешь чесаться. И солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке. - Куда, чорт, подвертки запихал? – говорил денщик, бегом следуя за повозкой и шаря в задке. И этот проходил с повозкой. За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты. - Как он его, милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы… - радостно говорил один солдат в высокоподоткнутой шинели, широко размахивая рукой. То-то оно, сладкая ветчина-то, - отвечал другой с хохотом. И они прошли, так что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина… …Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук , быстро приближающегося… чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду. - Ишь ты, куда фатает! – строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук. - Подбадривает, чтобы скорее проходили, - сказал другой неспокойно. Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро" (Л.Толстой Война и мир, том 1, часть вторая, гл. VII). Nokia! Здорово вы подметили о том, что описываемое Толстым не только видно, но и слышно. А сколько здесь места для читательской фантазии. Представляю, какое удовольствие испытывал Сергей Бондарчук, готовясь к съемкам – прямо сценарий! Знаете, мне кажется, что когда проходят эти солдаты мимо Несвицкого, то это должно быть снято неподвижной камерой. А вот когда секут татарина в "После бала", когда он сначала идет на рассказчика, а потом проходит как бы мимо, и видна его спина, то это надо снимать панорамой. Читаешь Толстого и прямо видишь, как это должно быть снято. Да, это не черный квадрат… Верно подметил Гость 1 |
|
|
Охрим Гость |
Добавлено: 13-10-2005 19:54 |
| Наталья, не ожидал! Такое "нутряное" знание способов съемки! Мы с Вами, мадемуазель, где-то в кино не встречались? | |
|
Валька Гость |
Добавлено: 24-10-2005 23:26 |
|
Все хвалят Натаху и ругают Сокурова. Я хочу, чтобы и мне какое слово сказали. Вот вам знаковый отрывок, но не из Толстого. Это из повести "Шинель" Гоголя: "На улице было еще светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света вовсю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местоприбывания". |
|
|
Викентий МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Директор 'Игротеки' Сообщений: 181 
|
Добавлено: 25-10-2005 19:13 |
|
А вот вам моя моряцкая загадка! Отрывок я взял из книги Александра Степанова "Порт-Артур". Там описывается тот исторический бой 27 января 1904 года нашего крейсера "Варяг" и сопровождавшей его канонерской лодки "Кореец" в русско-японской войне: "Но тут из-за острова навстречу "Варягу" на всех парах вылетел миноносец и кинулся в атаку. Единственный оставшийся в живых на крейсере барабанщик глухо пробил сигнал отражения минной атаки, Степанов кинулся к правому борту, где уцелело только четыре пушки. – Алексей Сергеевич, огонь по миноносцу! – крикнул Степанов, подбегая к Ляшенко. Но комендоры обоих орудий уже без команды взяли его на прицел. Пушки мгновенно были заряжены. До миноносца оставалось не более десяти кабельтовых. На солнце четко виднелся белый бурун на его носу и стоящие у минных аппаратов люди. Дым длинным шлейфом тянулся за ним. - Пли! – коротко крикнул Ляшенко. Пламя от выстрелов на секунду закрыло цель, затем над миноносцем взметнулось черно-белое облако дыма и пара. Не успело оно разойтись, как на поверхности воды показалась лишь масса плавающих деревянных предметов, среди которых виднелись черные точки человеческих голов. По "Варягу" разнесся радостный крик". Очень даже семиотический отрывочек. Даже киносемиотический, потому как снять его – да хоть сейчас. Все видно и слышно. Так вот я предлагаю всем подумать, какие знаки задействовал писатель Степанов в этом эпизоде. Подумать и, соответственно, написать сюда. |
|
|
Валька Гость |
Добавлено: 26-10-2005 22:57 |
|
Так вот: "барабанщик глухо пробил сигнал отражения минной атаки". Сигнал и есть знак. |
|
|
Валька Гость |
Добавлено: 26-10-2005 22:59 |
|
Так вот: "барабанщик глухо пробил сигнал отражения минной атаки". Сигнал и есть знак. |
|
|
Наталья Гость |
Добавлено: 27-10-2005 20:11 |
|
Я подумала: в этом отрывке ни разу не встречаются слова – "японский", "японская", или более конкретно – "японский миноносец". А вот название русского крейсера дается дважды – "Варяг". К тому ж, этот "Варяг" ведет морской бой. Следовательно, можно догадаться (то есть это ЗНАЧИТ!), что речь идет о Русско-японской войне, и что "Варяг" ведет бой именно с японским миноносцем. И если в этот, неназванный прямо миноносец, попадают русские снаряды, и автор книги констатирует: По "Варягу" разнесся радостный крик" – ЗНАЧИТ, потоплен именно японский корабль, а, скажем, не какая-то мирная корейская рыболовная лодчонка, раз русские матросы радуются виду голов, торчащих в воде. И это ведь тоже знаковое построение. Вроде остранения Шкловского, когда какой-либо предмет прямо не называется, но даются его характерные признаки и действия, позволяющие догадаться, о каком предмете идет речь. |
|
|
xandrov МАГИСТР КИНОСЕМИОТИКИ Группа: Участник Сообщений: 565 
|
Добавлено: 28-10-2005 23:32 |
|
Здесь еще есть то, что прямо относится к "полю воображения". Вот в этом абзаце: "Пламя от выстрелов на секунду закрыло цель, затем над миноносцем взметнулось черно-белое облако дыма и пара. Не успело оно разойтись, как на поверхности воды показалась лишь масса плавающих деревянных предметов, среди которых виднелись черные точки человеческих голов". Этот текст так искусно построен, что всякий читатель по-своему увидит в своем воображении момент попадания снарядов в миноносец, его общего взрыва и затопления – ведь эти "микрособытия" автором романа Александром Степановым, собственно, не приводятся в описании боя. Разумеется, общую концепцию эпизода, факт потопленя японского миноносца Степанов доносит до читателя стопроцентно. А вот насчет подробностей этого потопления…- чем сильнее у конкретного читателя фантазия и жизненный опыт, тем больше деталей он увидит – в своем мозге, конечно. Из этого и получается, что все читатели читают в данном случае одну и ту же книгу "Порт-Артур", но у каждого отдельного читателя в его собственной голове сочиняется его собственный индивидуальный "Порт-Артур". То же и в кино. Тут как снять. И если снять строго по здесь написанному, то получится, что после поражения снарядами этот самый японский миноносец обволакивается облаком дыма (пиротехники это сделают в два счета). И что происходит внутри этого облака с "Варяга" не видно. И, кстати, зрителям не должно быть видно – зрители волей-неволей примутся воображать то, что происходит внутри облака. Но если уж совсем грамотно режиссировать, то кое-какие детали происходящего в облаке надо все ж показать: вдруг вылетающие из дымовой завесы части корабельной надстройки, отдельные местные дымовые черные клубы, падающую в воду, фигуру человека в огне… Я думаю, что уже потом, во время студийного озвучания, толковый звукорежиссер может добавить к этому облаку хорошо придуманную какофонию звуков – взрывы корабельного боезапаса, треск рушащихся надстроек, крики японских матросов, страшные звуки водоворота, засасывающего тонущий миноносец и все прочее… А потом дым рассеивается и японского миноносца на воде нет, а есть только плавающие деревянные обломки, посуда, постельные матрасы и между ними японские моряки, то есть их головы над водой. Именно этот кадр (или именно эту часть общего кадра) следует продлить несколько более того, чем это требуется для только рассмотрения картины, открывшейся зрителю. Потому что в этот миг надо дать зрителю временную (может, какие-то дополнительные 5-15 секунд) возможность пофантазировать (пассивно поглядывая на экранное, еще длящееся, но никакой новой информации не несущее изображение) как именно тонул корабль. Каждый зритель представит себе это по-своему. Если же в сей миг резко дать встык к кораблекрушению другой эпизод с не менее сильными зрительными ощущениями, то зритель вынужденно переключится на эти следующие кадры и не успеет полностью довообразить крушение японского миноносца. И это станет некоторой потерей в восприятии зрителем фильмового ряда, "текста фильма" - говоря киносемиотически. В одном эпизоде такая потеря, в другом… в третьем… - и вот уже зрителю сам фильм представляется сумбурным, скомканным, малопонятным… А эти – сумбур, скомканность, малопонятность – не на экране, а в зрительной голове, из-за невозможности зрительских мозгов своевременно обработать и "оплодотворить собственной фантазией" обрушивающийся на него поток экранной информации. Кто виноват? – конечно же, режиссер, не учитывающий насущную необходимость таких вот "разряженных" участков своего фильма. Такая вот предположительная киносемиотика. Точнее, разбор киноязыка, с помощью которого на киноэкране излагается момент потопления японского миноносца. |
|
|
Валька Гость |
Добавлено: 29-10-2005 22:53 |
|
Здрассссьте, не знал, что у японцев военные моряки – негры! Вот же: "на поверхности воды показалась лишь масса плавающих деревянных предметов, среди которых виднелись черные точки человеческих голов". Понимаете, ни какие там белые, голубые, или, как надо бы в данном случае - желтые точки человеческих голов, а тут же – черные! Надо у нашей училки по истории расспросить. А то она все, когда про японцев: желтая раса, желтая раса… Эх, не читают они умных книжек! |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 7 8 9 ...... 23 24 25 26 Next>> |
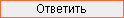
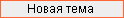
|
| Дискуссии по киносемиотике / / Проблема значения в кино |