
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 11 12 13 14 15 16 17 Next>> |
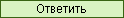
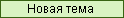
|
| Автор | Сообщение |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:07 |
|
Везде" у Бродского - "лежащее за пределом любой державы время", божественная пустота, где душа знает что-то, что знает Бог ("Как давно я топчу"), с ней не страшно слиться, оставив в пространстве дыру[10], ибо … общего, может, небытия броня ценит попытки её превращенья в сито и за отверстие поблагодарит меня. "Меня упрекали во всём, окромя погоды" 1994 Но в этом мире, существующем "покамест есть прощенье и шрифт", чёрному лучше "чернеть на белом": "чёрным по белому пишет память" и "если что-то чернеет, то только буквы"… Чернеть по Бродскому - обретать облик, обрастать чертами, прячущими букварь, любить, страдать, гореть, творить. Творение как соитие-горение, рождающее сонмы искр-звёзд ("Горение"). Почерк творчества - "обугленные края". Именно поэтому - "черней, бумага!" и "сколько света дают ночами сливающиеся с темнотой чернила!". Просто "свет из тьмы"! Свет из тьмы! Над чёрной глыбой Вознестися не могли бы Лики роз Твоих, Если б в сумрачное лоно Не впивался погружённый Тёмный корень их. Владимир Соловьёв "Сгусток чёрного на листе - ответ человека на существование" - наиболее адекватный для поэта путь само- и миропознания и, наверно, единственно возможный способ выживания. В "Колыбельной" 1964 года свет лампы падает на белый лист бумаги, образуя бесшумный круг для тёмных строк: Зимний вечер лампу жжёт, день от ночи стережёт. Белый лист и жёлтый свет отмывают мозг от бед. Опуская пальцы рук, словно в таз, в бесшумный круг, отбеляя пальцы впрок для десятка тёмных строк. В "Эклоге зимней" шестнадцать лет спустя всё так же: …….Взамен светила загорается лампа: кириллица, грешным делом, разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли, знает больше, чем та сивилла, о грядущем. О том, как чернеть на белом, покуда белое есть, и после. "Багатели" 1987 года завершаются строками: Освещённая вещь обрастает чертами лица. Чем пластинка черней, тем её доиграть невозможней. Чернеть и чертить - не однокоренные слова и не синонимы, но в словаре Бродского у них помимо собственной возникает и общая семантика - значимости, знаковости, обозначаемости. Здесь, несомненно, играет роль и фонетическое сходство корней, почти омонимия (черн/черт), ведь для поэта, по Бродскому, разницы между фонетикой и семантикой нет. Возможно, это будет преувеличением, но в корнях этих будто кроется палиндром к слову речь. Впрочем, если применение данного термина сомнительно, то явление паронимии налицо: три корневых звука совпадают <ч, е, р> . Так что ч е р т ы - те же ч а с т и р е ч и, и общность семантики этих понятий поддерживается изнутри самих слов на фонетико-морфологическом уровне. Чернеть, т.е. обрастать чертами, частными, неповторимыми чертами лица - суть говорить, творить речь-слово. И чёрная пластинка - не символ дурной бесконечности[11], а метафора этой максимальной зачерченности, "сгустка чёрного на листе" как значения, смысла …жизни; вариация сливающихся с темнотой чернил, дающих свет. Бейся, свечной язычок, над пустой страницей, трепещи, пригинаем выдохом углекислым, следуй - не приближаясь! - за вереницей литер, стоящих в очередях за смыслом. Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише - большую площадь, чем покрывает почерк! Да и копоть твоя воспаряет выше помыслов автора этих строчек. Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя; вечным пером в память твоих субтильных запятых, на исходе тысячелетья в Риме я вывожу слова "факел", "фитиль", "светильник", а не точку - и комната выглядит как в начале. (Сочиняя, перо мало что сочинило.) О, сколько света дают ночами сливающиеся с темнотой чернила! Римские элегии, YIII |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:07 |
|
Мысль "автора этих строчек" от мелочей и частностей -- колеблющегося пламени свечи и субтильных запятых копоти, подобных буквам, ещё не обретшим смысла - движется к тайне метафизики мироздания: Слову-Свету в Начале. Но что, собственно, здесь описывается? Минута задумчивости автора над листом бумаги, довольно общее место в ряду поэтических рефлексий. Его взгляд, а за ним мысль обращаются к пламени свечи и его следу в пространстве - копоти (тут включается реминисценция из " ястреба" - "выше / лучших помыслов прихожан"). Строфа начинается с довольно пейоративных (уничижительных) замечаний в сторону свечного язычка: бейся, трепещи, пригинаем выдохом, следуй, не приближаясь. Но вот "кругозор" автора и "круг" света расширяется до сравнения площади света и почерка: "ты озаряешь… большую площадь, чем покрывает почерк", а затем - высоты … копоти и помыслов. Всё это не лишено игры лёгкой иронии и даже следующая, существенно важная часть, включается несерьёзным вводным "впрочем". Перо, наконец, выводит слова… То есть автор - на пороге вдохновения; "минута - и стихи свободно потекут"! Однако, "перо мало что сочинило"… и не понятно, откуда столько восторга по поводу странного света, исходящего от чернил. Но стоит присмотреться к выведенным словам - трансформации свечного язычка в имя, как что-то вдруг напомнит о первом дне творения. Его величество Свет обретает ИМЯ в образе литер - в Слове. Да, здесь это всего лишь свет свечи - нечастого гостя в стихах Бродского, писать он предпочитал при лампе - но свечи символизируют горение во славу Всевышнего. Впрочем, имя подбирается не сразу: факел - слишком пафосно, фитиль - уничижительно, зато светильник, освещавший тьму в "Сретеньи" - в самый раз. Свет из тьмы! Итак, изначальное состояние достигнуто - комната, материя, мироздание - выглядит как в Н а ч а л е, т. е. я, поэт, вернул мир к началу творения или творчества, как Господь это и проделывает, о чём сказано в Книге, - следовательно, перо, действительно, м а л о что сочинило. Но осознание своего труда как акта сотворчества Всевышнему озаряет его, этот труд, нездешним светом… "О, сколько света дают ночами сливающиеся с темнотой чернила!" … Это дерзкое сопоставление поэта Создателю передано здесь таким неподражаемым, или "трудным для подражанья птичкиным языком", каким только и можно сегодня говорить о вечных духовных ценностях… Кстати, о птичках …, точнее, о ястребе, сверкающей птице, плывущей в зенит, в ультрамарин…, "чьи осколки, однако, не ранят, но тают в ладони. И на мгновенье вновь различаешь кружки, глазки, веер, радужное пятно, многоточия, скобки, звенья, колоски, волоски - бывший привольный узор пера", …и птичьего, и стального; … значит, и это всё о нём - о языке. Почерк… мелкие частные чёрточки, нюансы пера/письма, создающие на листе неповторимый привольный узор, "очерк чей и через сто тысяч лет неповторим". Правда, последнее, очерк, относится к сумме двух лиц, их чертам… в горах ( имеется ввиду стихотворение "В горах"): Против них / гор/, что я, что ТЫ, оба будучи ЧЕРНЫ, ихним снегом на ЧЕРТЫ наших лиц обРЕЧены. Более наглядного доказательства единства корневой семантики зарифмованных здесь слов, думаю, невозможно представить. И простенькая рифма: ТЫ - ЧЕРТЫ столь устойчива в его стихах по той же тайной "семантической" причине: Я взбиваю подушку мычащим "ты" за морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты как безумное зеркало повторяя. "Ниоткуда с любовью"1975 Я был лишь тем, что ты там, внизу, различала: смутный облик сначала, много позже - черты. "Я был только тем" 1981 Можно пору за порой твои черты воссоздать из молекул пером сугубым. Либо, в зеркало вперяясь, сказать, что ты это - я; потому что кого ж мы любим, как не себя? "Полонез: вариация" 1982 Мало людей; и, заслышав "ты", здесь резче делаются черты, точно речь, наподобье линз, отделяет пейзаж от лиц. "Иския в октябре"1993 |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:08 |
|
Смутный облик обретает черты, лицо… благодаря ТЕБЕ, ТЕБЯ повторяя, заслышав "ТЫ". Ты - речь; черты - твоё отражение… там, внизу…, …линзы, зеркала… Ведь среди коннотаций местоимения второго лица единственного числа "ТЫ" и любимая женщина, и Создатель /, язык /, речь…. Здесь всё сливается, как сбегается и сама эта рифма в стихотворении 1987 года: 1 Ночь, одержимая белизной 2 кожи. От ветреной резеды, 3 ставень царапающей, до резной, 4 мелко вздрагивающей звезды, 5 ночь, всеми фибрами трепеща 6 как насекомое, льнёт, черна, 7 к лампе, чья выпуклость горяча, 8 хотя абсолютно отключена. 9 Спи. Во все двадцать пять свечей, 10 добыча сонной белиберды, 11 сумевшая не растерять лучей, 12 преломившихся о твои черты, 13 ты тускло светишься изнутри, 14 покуда, губами припав к плечу, 15 я, точно книгу читая при 16 тебе, сезам по складам шепчу. В метрическом отношении перед нами дольник, трёхударный с характерным ускорением ритма в первой половине и четырёхударный, отяжелённый спондеями, во второй, особенно, ближе к концу. Замедление ритма и паузы, вызванные спондеями, соответствуют местам высокой смысловой нагруженности в тексте, в частности, появлению очередного субъекта повествования: ночь, всеми …, ты тускло…, я, точно…; и метафорическому указанию на меру силы света-сна: Спи. Во все двадцать пять свечей. Рифма на протяжении всего текста мужская, точная, перекрёстная: авав. Сюжет этого стихотворения как любовного можно изложить в пяти словах: ночь, он любуется ею, спящей. Стихотворение явно делится на два равных синтаксических периода, содержащих признаки параллелизма в композиции. Первый начинается с назывного предложения, метафорически задающего одну из главных тем: чёрное на белом. Второй период открывается предложением в одно слово, глаголом в повелительном наклонении: спи. Далее в обоих случаях следуют сложноподчинённые предложения, включающие по два причастных и одному деепричастному обороту. Субъектом первой части - строки 1-8 - выступает ночь - ОНА, 3лицо, ед.ч., объект которой - лампа. В девятой-шестнадцатой строчках субъектов двое, ты и я, поэтому логично разделить этот период на два, тогда вторая часть - строки 9 - 13 - соотносится с местоимением 2 лица ед.ч. ТЫ, а третья - строки14-16 - с местоимением 1 лица ед.ч. Я. Каждому из субъектов соответствует один активный предикат - это глаголы в форме настоящего времени третьего, второго и первого лица: ночь …льнёт; ты … светишься; я … шепчу. Что означает это движение от третьего лица к первому и всё уменьшающееся количество строк в частях может прояснить анализ текста на семантическом и фонетическом уровнях, разделять которые мы строго не будем, следуя замечанию поэта об отсутствии между ними существенной разницы. Ночь - здесь - не пустота, скорее страстное живое "существо", одержимое, трепетное, льнущее, всё в ней напоено, "населено" жизнью: от ветреной резеды, ставень царапающей, до резной, мелко вздрагивающей звезды. Звукопись первых четырёх строк - звенящая; звуковые повторы - жи - з -н складываются в слово "жизнь": Ночь, одерЖИмая белиЗНой / коЖИ. от ветреНой реЗеды / ставеНь царапающей до реЗНой / мелко вЗдрагивающей ЗвеЗды, Ночь… - а взрывные и шипящие Ч, Ц, Щ вносят в этот звон ноты тревожности, страстности, которые в следующих четырёх строках (5-8) акцентируются заключительными рифмующимися словами: трепеЩа, Черна, горяЧа, отклюЧена. Последние два определения относятся к ЛАМПЕ (=коже), чьей белизной, светом, теплом ночь одержима и чьё появление приводит к победе сонорных: всеМи фибраМи, НасекоМое, ЛьНёт, черНа к ЛаМпе - и ( в 8 строке) особенно мягкого Л, в сочетании с ассонансами гласных А и У (на, лю): [ хАт'А АпсАЛ'УтнА АткЛ'УченА ]. А…Ю… б-а-ю, баюшки-баю…. спи. А я спою тебе колыбельную, тебя убаюкаю… "Спи" - начало второй части, подразумевает обращение ко второму лицу единственного числа - ТЫ, которое затем, в начале 13 строки, появляется как подлежащее (субъект вто- рой части). Таким образом, третье четверостишие, содержащее описание-размышление, посвящённое лирическому адресату или "тебе", оказывается закольцованным своеобразным повтором "спи - ты", что является параллелью к повторению слова "ночь" в начале первой и пятой строк, причём все четыре слова стоят в сильной ударной позиции, а "ты" акцентируется ещё и паузой благодаря спондею: ты // тускло. Что же поведано нам о спящей? Ещё из первой части следует, что её белеющая в темноте кожа горяча и притягивает ночь, как насекомое - лампа: ночь, одержимая белизной, …льнёт, черна, к лампе. Чёрное на белом - константная поэтическая формула Бродского. Теперь же мы узнаём, что она ("ты") хранит, излучает, правда, совсем слабый, комнатный, свет: двадцать пять свечей - это не "лампы в тыщу ватт"; и семантика местоимения "все" двойственна - то ли увеличивает силу света: во все - изо всех сил, то ли скрадывает силу, сохраняя напряжение: во все 25 свечей - всего, из последних сил… Одновременно сила света сцепляется с силой сна, словно измеряемой в тех же свечах, тем более, что в следующей строке даётся первое умозрительное определение "её" как "добычи сонной белиберды", т.е. буквально - добычи снов, видящей сны (м.б., стоит вспомнить Платона с его теорией жизни как слабого, (сонного) отражения сверкающих небесных истин?), содержанием которых является "белиберда" - мелочи, частности, незначительные подробности жизни - её "случайные черты". Рифма: белиберды - черты; твои черты, в которых преломились (т.е., частным образом отразились) лучи света, света Творца, лишний раз подтверждает высокий статус незначительного в мироощущении Бродского. Ты сумела "не растерять лучей" и потому "светишься изнутри", светишься "внутренним" светом - светом жизни; ты и жизнь - синонимы…; жизнь ведь тоже женского рода. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:09 |
|
Тематическое поле "жизни" в её как активных, так и пассивных проявлениях, т.е. круг слов, объединённых хотя бы одним общим семантическим признаком "живого" (телесного, чувственного, страстного, действенного), самое широкое в стихотворении. К нему относятся: существительные - кожа, резеда, фибры, насекомое, черты, губы, плечо, добыча и белиберда; прилагательные - ветреная, горячая, сонная; глаголы, деепричастия, причастия и связанные с ними наречия - льнуть, спать, шептать, одержимая, царапающая, мелко вздрагивающая, абсолютно отключена(в смысле: спящая), сумевшая не растерять, трепеща, припав, изнутри. (25 слов) Вторым по объёму является тематическое поле "света": белизна (кожи), звезда, лампа, во все двадцать пять свечей, лучи, преломившиеся (о лучах), тускло, светиться. (8 слов и словосочетаний). К тематическому полю антагониста света - "тьме" - принадлежат слова: ночь(2) и черна[12]. Однако по своему семантическому и фонетическому "окружению", как уже было показано, "ночь" относится также к теме жизни, а "черна" - к теме творчества и сотворчества (чёрное на белом). Тема творчества, обозначенная в первой части страстью ночи к лампе-коже - чёрного к белому - обретает своё семантическое поле в лексике третьей части (14-16 строк): губы, книга, читать, сезам, по складам, шептать, - представляющей собой придаточное предложение условия-времени с подлежащим, местоимением первого лица единственного числа Я, и включается в текст союзом <покуда>, наиболее релевантным развёрнутым прочтением которого мне представляется <до тех пор, пока>: покуда губами припав к плечу, я, точно книгу читая при тебе, сезам по складам шепчу. Таким образом, ТЫ попадает в некую зависимость от Я: ты светишься, покуда я шепчу (аналогично: "Она /словесность/ пока есть в горле влага, не без приюта"), т.е. пока я могу складывать слоги в слова, чернить бумагу литерами, стоящими в очереди за смыслом. Смысл же слова "сезам" - волшебное заклинание, позволяющее проникнуть в тайну, здесь - в тайну твоего света; "по складам" - всё то же складывание, сочинение, творчество. Пока я заклинаю тебя, слагая стихи, ты светишься. И совсем не обязательно верно, хотя и возможно, обычное житейское обратное: пока ты светишься, т.е. пока жизнь теплится, я слагаю стихи. Нет! Ты светишься благодаря моему шёпоту… , замолкну я - и ты погаснешь. Так, на свой манер, Бродский поддерживает старый романтический миф: поэт и творчество едины; жизнь и поэзия - одно. В 14-й строчке присутствует и эротический мотив: "губами припав к плечу", но эта близость уподобляется чтению[13] книги при лампе-тебе. Спондей - Я,//точно - усиливает значимость и точность сравнения: создавая паузу, он высветляет семантику выступающего в роли союза наречия <точно>. Чтение книги соотносится также с шёпотом губ. "Быть может, прежде губ уже родился шёпот", - сказал когда-то Мандельштам; - но не прежде Книги, - добавил бы Бродский. Ведь он шепчет, точно книгу читая … И шёпот этот отчётливо проступает в эвфонии второй и третьей части увеличением аллитераций глухих, свистящих и шипящих звуков С,Т,Ч,Ш, в то время как фонетический строй начала стихотворения, определяли звонкие согласные З, Ж,Щ. С Т Ч Ш З Ж Ц Щ 1-8 строки 5 7 6 0 6 2 1 3 9-16строки 12 13 8 4 2 0 1 0 Что касается ассонансов, то как бы создавая параллель концу первой части, в 13-16 строках вновь преобладают гласные А и У: пАкУдА гУбАми припАв к плечУ, // Я, точнА книгУ читАЯ при // тебе, сезАм пА склАдАм шепчУ. Поэт снова убаюкивает жизнь, заклинает этот слабый, едва теплющийся свет не уходить, ещё побыть: пока ты спишь и светишься, я шепчу…; но, как мы пытались доказать, вернее и важнее обратное: пока я шепчу - ты светишься. Итак, пространство в тексте сужается по мере приближения к последнему субъекту, чему соответствует уменьшение количества строк в частях ( ночь -8; ты -5; я - 3 строчки ). Это характерно для движения центростремительного (т.е. в личностном плане - эгоцентрического), когда ядром оказывается "Я". Только это не всё Я, даже не его крик, а всего лишь еле слышный шёпот, частность, незначительность - шёпот, способный, однако, своими словами, заклинаниями, стихами поддерживать преломлённый в твоих чертах, чертах Жизни, свет-"букварь"[14] - дар Всевышнего. Так стихотворная мысль получает неожиданное "центробежное"[15] развитие. Так частное, личное, необщее приобретает значение Части Целого, становится Частью РЕЧИ. Се-зам! |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:12 |
|
Примечания: Сочинения Иосифа Бродского (дальше: Сочинения) СПб., 2000. Т. YI - с. 45. Александр Блок Собрание сочинений. М-Л., 1962. Т.YI - с. 100. Данный текст М.Л.Гаспарова хранится в фондах Государственного музея-заповедника А.А.Блока "Шахматово". Из письма Якову Гордину 1988г./ В кн. Я.Гордина "Перекличка во мраке" СПб., 2000. -с. 224./ Ю.Лотман, М.Лотман "Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского "Урания". "Горбунов и Горчаков" - Сочинения Т.I Платон. Избранные диалоги. М., 1965. - с. 360. Сочинения Т.YI. - с. 90. А.Ранчин "На пиру Мнемозины" /интертексты Бродского/ М., 2001 - с.40-45. " Из примата формы над материей следует, в частности, что основным признаком вещи становятся её границы; реальность вещи - это дыра, которую она после себя оставляет в пространстве. Поэтому переход от материальной вещи к чистым структурам, потенциально могущим заполнить пустоту пространства, платоновское восхождение к абстрактной форме, к идее, есть не ослабление, а усиление реальности, не обеднение, а обогащение". Ю. и М. Лотманы, указ.соч. О.Глазунова в монографии "Иосиф Бродский: американский дневник" высказывает следующее мнение: "…"Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней". Какими бы иллюзиями ни тешил себя поэт, в реальности те версты, которые он видит перед собой, превращаются в "черную пластинку" повторяющейся действительности, которая для него никак не может закончиться". Произнесение этих двух слов как единой короткой фразы вызывает ассоциацию со строчкой из стихотворения Анненского "Сон и нет": "…. Просыпаюсь. Ночь черна…", но у Бродского мы встречаемся не с прямой, а косвенной аллюзией этой фразы, так как слова "ночь" и "черна" оказываются разведены на достаточное расстояние и включены в большой синтаксический период, раскрывающий тему трепета жизни, условно аналогичного трепету двух любимых, кротко-синих небо видевших лучей в первой части стихотворения Анненского. Предположение, что стихи Бродского содержат тайный, возможно даже, подсознательный диалог с Анненским, позволяет прочесть в их последней строчке попытку "ответа" на безысходную тоску финала поэта-символиста. Вместо заключительного молчания ("нет ответа") - волшебное слово по складам, вместо духоты ("ночь душна") - шёпот - дыхание, жизнь. Несмотря на присутствующую слабую пастернаковскую аллюзию, это очень далеко от "чуть свет, перечту и пойму", ибо о том, "как я трогал тебя" здесь слов нет. (Б.Пастернак "Здесь прошёлся загадки таинственный ноготь"). Двуногое - впрочем, любая тварь (ящерица, нетопырь) - прячет в своих чертах букварь, клеточную цифирь. "Полдень в комнате" 1978 "Стихотворение - и прежде всего стихотворение с повторяющимся рисунком строфы - почти неизбежно развивает центробежную силу, чей всё расширяющийся радиус выносит поэта далеко за его первоначальный пункт назначения". - "Кошачье "мяу" - Сочинения. Т.YI.- с. 257. © N. Prozorova |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 04-05-2007 11:33 |
|
продемонстрировать практику компенсации хаоса в области содержания текста предельной упорядоченностью его структуры Удивительно и интересно.Бывают же мысли независмо возникающие. Хаос в упорядоченности или упорядоченность в хаосе |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 04-05-2007 11:38 |
| какое таинство бродского Этот рыжий, как говорила Ахматова унёс с обой в могилу столько тайн, что нам и последующим за нами разгадывать и разгадывать и не за чашкой чая или кофе, а за пустым столом где лежат несколько листов бумаги и рисовать и думать. | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 04-05-2007 11:45 |
|
Киселёва Л.А. “Мой древний брат Гомер...” Об эпическом начале в творчестве Николая Клюева Эпическое начало в творчестве Клюева является преобладающим — это мнение разделяют все исследователи его поэзии. Однако границы собственно эпического жанра — поэмы — устанавливаются спорно; один из авторитетных ученых-клюеведов полагает, что и стихотворные циклы (например, “Избяные песни”, “Разруха”), и поэмы — это “своеобразные главы единого лирического эпоса, типовыми признаками которого у Клюева являются пространственно-временная спрессованность, соединяющая историческое прошлое страны и современность, фольклорно-мифологические реминисценции, позволяющие поэту в личной судьбе провидеть общественные коллизии” [1] . Трудность жанровой дифференциации усугубляется и тем, что сам поэт называет свои эпические творения то плачем (“Плач о Сергее Есенине”), то песнью “Песнь о Великой Матери”); в текст произведения часто вторгаются иные определения (например, “акафист”). Однако и акафист, и некоторые духовные стихи могут рассматриваться именно как поэмы, как религиозный эпос, принадлежащий двум взаимодействовавшим традициям — книжной, гимнографической, и фольклорной. В отношении акафиста важно подчеркнуть следующее: каноничность этого жанра предопределила сохранение в нем “принципа инвариантности” [2] . Стереотипные композиционные, ритмосинтаксические, лексические элементы акафиста облегчают восприятие умозрительной символики каждого образа-уподобления. Акафист может восприниматься, подобно иконе и храмовому зодчеству, в русле литургического гнозиса — как средство постижения непостигаемого и соединения с недостижимым. Характерно, что эпический замысел своего вершинного творения, “Песни о Великой Матери” [3] , Клюев определил как акафистное песнословие: “Спою акафист о былом!” (783) [4] . Концентрическая структура уподоблений, лежащая в основе акафиста, обеспечивает общую устремленность к постижению единого смысла, на который указывают нескончаемые ряды символов. Мистический порыв обуздан, подчинен строгой канонической форме — последовательному чередованию икосов и кондаков (последние обычно кратки, примерно в три раза меньше, чем икосы). Первый кондак, открывающий акафист, стоит на месте древнего зачина, который назывался “кукулием” (что означает “капюшон”), ибо он словно покрывал собою весь текст, определяя структуру рефренов [5] . От остальных 12-ти первый кондак отличается тем, что “формирует” единый рефрен, заключительное “Радуйся!” каждого из икосов. (Обязательный рефрен всех последующих кондаков иной: “Аллилуйя”). Икосов (“икос” буквально означает “дом” [6] тоже 12; они непременно содержат одинаковое количество хайретизмов (от начального возгласа “хайре”, означающего “радуйся!”). 24 части акафиста (без “зачина”) соответствуют двадцати четырем буквам греческого алфавита. Таким образом, в акафисте текст “возводится” — венец за венцом, подобно храму. Число 24 напоминает и о суточном времени, и о “часах” церковных служб (древние христиане делили сутки на две равные части — дневную и ночную, по 12 часов в каждой). Еще в “Избяных песнях” Клюев использовал аналогичную символику в описании сельского храма: “Ступенчаты крыльца, что час, то ступень, / Всех двадцать четыре — заутренний день” “В селе Красный Волок пригожий народ…” 242. Последовательность чередования икосов и кондаков, строгая соразмерность частей, параллелизм тонического рисунка, наличие своеобразного “фундамента” (первый кондак с основополагающим рефреном) и “пятиглавой вершины” (троекратное чтение последнего кондака с последующим повторением икоса 1 и кондака 1 [7] ) — все это усиливает впечатление “зиждительности” молитвословного стиха в акафисте. Поэтому вполне уместны слова Клюева о строителях храма “Покров у Лебяжьих дорог” (в “Песни о Великой Матери”): “С товарищи мастер Аким Зяблецов / Воздвигли акафист из рудых столбов...” (705); “Срубили акафист и слышен и зрим...” (707). Во многих клюевских поэмах можно обнаружить повторение отдельных фрагментов, наличие рефренов, симметрию обращений, концентрическую структуру образов-уподоблений, восходящих к единому смыслу. Как в акафисте чередуются историко-повествовательные, догматические фрагменты с прославительными, как в иконном писании клейма с изображением “страстей” обрамляют образ прославляемого святого, — по тому же принципу, на наш взгляд, построена и поэма “Погорельщина”. “Страсти по Руси”, круг за кругом, возводят читателя к созерцанию нерукосечного Богородичного лика. Финальное обращение к Лидде подобно традиционной завершительной молитве акафиста. Здесь содержится прямое указание на чудо Лиддской иконы Божией Матери во времена Юлиана Отступника (“И, ордой иссечен, / Осиянно вечен / Материнский Лик?! — 695); неизбывная же горечь финала “Погорельщины” обусловлена тем, что это “лик” Руси, которая “отлетает”... [8] Попытки создания Клюевым новых для русской литературы модификаций лиро-эпического жанра отмечены также архаичным синкретизмом ритмически-музыкального, обрядового и словесного элементов [9] . Здесь налицо связь с ритуалом, и эта связь — отличительная черта клюевского эпоса. К примеру, ритуальная сверхзадача такого текста как “Плач о Сергее Есенине” определяет замысел поэмы и ее структуру — то есть ритуальный элемент является здесь преобладающим и заметным с первого взгляда [10] . В других произведениях ритуальные интенции могут быть замаскированы: о смысле творимого “действа” трудно судить однозначно, поскольку элементы ритуала разнородны и вплетены в сложную орнаментальную структуру (поэмы “Четвертый Рим” и “Мать-Суббота” [11] ). На связь с эзотерической, “скрытной” традицией народного религиозного эпоса Клюев то намекает (и названием, и содержанием произведения), как в “Поддонном псалме”, то явно указывает, предпосылая тексту в качестве эпиграфа “правила” его воспроизведения — по “тайному свитку олонецких сказителей-скрытников”, как в “Беседном наигрыше”. Постоянно называя себя “Бояном”, “песнописцем” (и говоря о Гомере: “Мой древний брат”), Клюев еще в одном из самых ранних стихотворений определил эпическую природу своего дарования: “Я поведаю миру былину...” “Я поведаю миру былину...” 87. А в 30-е гг. (вместо требуемой Союзом писателей “самокритики”!) он отстаивает свое право называться художником “туземной живописи”, вписывая собственное творчество в мировую эпическую традицию: “Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной, занесенной снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему ж русский берестяной Сирин должен быть ощипан и казнен за свои многопестрые колдовские свирели..?” [12] Особенно интересовали Клюева пути воссоздания, реконструкции древнего эпоса. Так, в “Песни о Великой Матери” несомненным эпическим ориентиром явилась “Калевала”. Е.И. Маркова, основательно исследовавшая связи Клюева с финно-угорской культурой (этим “обязательным компонентом” культуры Русского Севера), пишет: “Калевала” является для поэта одной из книг-“ориентиров”. В отличие от русского фольклора, она описывает более древние временные пласты. Чтобы объединить разноплановый языческий материал, поэту была необходима опора на фольклорный вариант “летописи”. Эту функцию выполнила “Калевала”. Мифические времена в ней завершаются наступлением христианской эры. Она объединяет образы и мотивы разных жанров, дает слово не только вещему певцу, но и современному рассказчику. Хотя “Калевала” вобрала огромный фольклорный материал и изустна в своей основе, она в то же время написана, воссоздана Элиасом Леннротом, человеком, впитавшим современную ему европейскую культуру. Эта методика освоения народной культуры была соприродна художественным поискам Николая Клюева” [13] . Итак, корни клюевского эпоса достигают различных историко-культурных и этнических пластов (в этом контексте следовало бы упомянуть также “Песнь о Гайавате”, поскольку наш “песнописец” называл себя и “Олонецким Лонгфелло”); в то же время “мысль эпическая” в творчестве Клюева едина и устремлена к воплощению лика крестьянской Руси, к изображению народного бытия на разных исторических этапах. При этом словно воссоздается, — а точнее, “считывается” и записывается — “земляная” Книга русских “Исавов в словесной ловле”: “в земле наших книг страницы...” “Узорные шаровары...” 488, — то есть Клюев подчеркивает свою ориентацию на “личный поэтический акт без сознания личного творчества”, что должно было соответствовать “поднятию народно-политического самосознания, требовавшего выражения в поэзии” [14] . Именно так определил А.Н. Веселовский условия появления больших народных эпопей — и тут же подчеркнул, что у русских не было ни романтического эпоса (подобного “Нибелунгам”), ни народно-исторического (как “Песнь о Роланде”), хотя и существовали отдельные эпические песни (былины Киевского цикла). Причина отсутствия русского эпоса в том, что “не было, стало быть, сознания народно-политической цельности, которую сознание религиозной цельности не восполняло... Когда миновала татарская эпоха и политическое объединение явилось поддержкой национальному самосознанию, время эпоса было пропущено, потому что личное сознание вступило в свои права...” [15] В эпоху символизма, когда творчество прочно обосновалось “в кругу мифа” [16] , формируется новая модель авторского сознания, ориентированного на соборное, хоровое начало [17] . “Реалистический символизм” Вяч. Иванова изначально предполагал возможность появления текстов, подобных его итоговому творению — “Повести о Светомире царевиче” (которую исследователи называют “грандиозным эпопейным творением”, “русской Илиадой” [18] ). Особое положение Клюева (в отличие от таких “соборных мифотворцев”, как Хлебников, Ремизов или тот же Вяч. Иванов) заключалось в том, что ему вовсе не требовалось трансформировать “личное сознание”. Поэт был убежден: впервые в истории многомиллионное русское крестьянство заговорило его устами на общенациональном культурном языке. Поэтому “баснослов-баян”, “посвященный от народа” свое личное бытие воспринимал как часть всенародного бытия: “Что мы с тобою не народ — / Одна бумажная нападка...” “Бумажный ад поглотит вас...” из цикла “Поэту Сергею Есенину” 302, — и события личной жизни способен был осмыслить как звенья эпического сверхповествования. “Калевалов волхвующий внук”, “певец олонецкой избы”, Клюев охотнее называл себя “шаманом”, чем “литератором” (“книжным” поэтом), и относился с презрением к “ученой лупе” писавших о нем исследователей, потому что считал себя владельцем “родительского талисмана”, который “в ученую лупу незрим” [19] . Наделенный даром великого могущества в слове, он осознавал себя “современником” многих столетий, “сыном сорока матерей”, способным отыскать “ключ от песни всеславянской и родной”, — соучастником всех духовных исканий, исторических трагедий, побед и бедствий славянства: “Вновь меж трупов на Косовом поле / Узнают царя Лазаря сербы” “Наша русская правда загибла...” 544; “Чумаки в бандурном, родном, / Мы ключи и Стенькины плеса / Замесим певучим пшеном” “Не буду писать от сердца...” 523. И вновь вернемся к фундаментальному исследованию А.Н. Веселовского (которое, возможно, известно было Клюеву): “...эпика еще продолжает жить кое-где в циклах песен, объединенных именем или событием, Киевом или Косовской битвой, либо в циклических спевах, в роде якутских былин, олонго, пение которых занимает несколько вечеров. Песни эти спустились теперь в народ, еще лелеют народное самосознание там, где оно стоит или стояло на уровне условий, впервые вызвавших их появление и продукцию; в таких условиях мыслимо и новое песенное сложение в формах старого” [20] . Подчеркнем, что возникновение “народных эпопей” Веселовский ставил в зависимость от “сознания политически сплотившейся народности, чающей исторических целей”; причем особо оговаривал роль певца, ощутившего себя поэтом: “...это не механический спай эпических песен — кантилен, как то полагали многие, а нечто новое, обличающее одного автора, его индивидуальный подвиг” [21] . Касаясь “внешних” факторов, влиявших на формирование творческого “эпического” самосознания Клюева, напомним также о двух мнениях его современников: Гумилева, воспринявшего первую клюевскую книгу стихов как обещание большого эпоса [22] , и Мандельштама, увидевшего народность поэта не только в его природной связи с “величавым Олонцем”, этим легендарным заповедником древнерусской культуры и фольклорной архаики, но именно в том, что поэзия Клюева сочетает “ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного сказителя”, — то есть она предельно органична как художественное явление и “эллинистична” [23] . Что же касается “внутренних” факторов, то здесь, в первую очередь, отметим клюевский антииндивидуализм, отвращение к “трупному яду самоуслаждения собственным я”, о чем молодой Клюев так горячо и убедительно писал Блоку [24] . Тогда же, в переписке с Блоком, впервые проявилось ревнивое и требовательное отношение Клюева к произведениям о народе и, в особенности, “от имени народа” — к стилизации песни. Он крайне резко отозвался о подобных опытах боготворимого им Блока (стихотворениях “Песельник” и “Пляска”), назвав их “балаганными прищелкиваниями про Таньку и Ваньку...” [25] Высказывая в связи с этим свое понимание песенной магии, Клюев пишет о “языке линий”, без которого “не может быть понятной во всей полноте и народная песня” [26] . Что это за странный “язык линий”? Скорее всего, Клюев имел в виду особый статус фольклорного слова: его смысл связан не с лексическим значением, но предстает “как изображенный в слове волевой импульс (В. Тэрнер), акт-деяние (Н.И. Толстой), элемент модели мира (В.Н. Топоров)” [27] . Изначальная ориентация на семантический язык фольклорной традиции обусловила богатство “линий” и внутреннюю взаимосвязь “песен” самого Клюева. Среди присланных Блоку “олонецким крестьянином” стихотворений были и те, которые вошли впоследствии в цикл “Песни из Заонежья”, явившийся первой “попыткой эпоса” в творчестве Клюева. От старины до современности, от “досюльных” преданий и обрядов до живых картин “лихолетья” (начала I мировой войны) — в “Песнях из Заонежья” развивается единая тема “цветика алого” народной души. Цикл из 28 песен распадается на своеобразные “гнезда”, в каждом из которых можно выделить преобладающие мотивы, — причем их варьирование и взаимодействие позволяет выявить содержание фольклорной традиции с небывалой полнотой и глубиной осмысления [28] . Подчеркнем: Клюев всегда стремится максимально использовать скрытые в традиции возможности. Так, например, “Беседный наигрыш” и “Поддонный псалом” ориентированы на эпическую и лирическую разновидности духовного стиха. Первый текст представляет собой “сказ”, предполагает общение со слушателями и перенасыщен фольклорными “формулами”. Второй же — явно эзотерического содержания — обращен не к людям, а к Богу, содержит ряд мистических видений, отражает духовные трансформации автора — визионера и псалмопевца. (Финальное обращение к “братьям” становится возможным лишь вследствие наступившего преображения). Однако в обоих случаях перед нами — “стих доброписный”: “беседный” — с характерным для старообрядческой и сектантской традиции смещением места и времени, архаики и современности, сказочного и бытового, мифологического и исторического; “поддонный” — творимый словно вне времени и пространства, в порыве мистического вдохновения. Таким образом, здесь перед нами — своеобразное взаимодополнение “экстравертивного” и “интравертивного” начал в рамках единой жанровой традиции. Ощущение “породненности” текстов, их восприятие в качестве эпического диптиха или триптиха обеспечивается различными средствами (в первую очередь, единым символическим кодом). Особый интерес представляет эволюция “мистической” поэмы в творчестве Клюева”. По сути, в “Поддонном псалме” представлен свод мистических мотивов, получивших впоследствии развитие в “Белой повести”, “Белой Индии” и “Матери-Субботе” (воссоединение с мирообъемлющим Словом; духовное “зачатие” и “рождество”, предшествующие изречению поэтом “жизнедательного глагола”). В “Белой повести” и “Белой Индии” единство мистической темы подчеркнуто символикой заглавий и единой образной системой. Поэмы “Заозерье” и “Деревня”, напротив, противостоят друг другу, это два образа Руси крестьянской, два временных круга: круг вечности — исконного, крепкого, освященного традицией бытия — и круг безвременья, из которого силой заклинанья поэт стремится вырвать родную землю. “Погорельщина”, “Каин” и “Песнь о Великой Матери” объединены мотивным комплексом российского Апокалипсиса, общими чертами образа автора и последовательным развитием мистериального начала. В клюевском эпосе 20-30-х годов угадывается метасюжет, в развитии которого участвуют Богородица и Параскева Пятница, Егорий Храбрый и Федор Стратилат. Одной из опор эпического сверхповествования являются легенды о Лиддской и Феодоровской иконах Божией Матери (празднуемых почти одновременно, ранней весной, в марте). Это позволяет связать мотивы Лидды, Китежа, Георгия Победоносца, Феодора Стратилата с темой судеб России [29] . Правда, звенья метасюжета глубоко скрыты, и путь к ним, как предупреждает Клюев, — по “тропинкам междустрочий”, по “линиям” уникального, единственного в своем роде клюевского словесного орнамента. Несомненно, что эпическое начало в творчестве Клюева тесно связано с природой его орнаментальной поэтики. Орнаментализм художественного мышления характеризует переломные эпохи, выявляя в скрытом виде свои ритуальные основы [30] . В “Четвертом Риме”, “Матери-Субботе”, “Погорельщине” и “Песни о Великой Матери” орнаментализм наиболее явственно проявляется “в плане прагматики: поэтическое узорочье ретроспективного размышления и императивов политической мифологии” [31] . Формульность (лексическая и метроритмическая), иерархическая система символов, регулярность повторения основных семантических матриц, ритуально-мифологическая заданность формально-композиционного уровня — обеспечивают целостность, своего рода “непрерывность” и принципиальную незавершенность эпического текста Клюева. Понятно изумление исследователей этого текста (и, увы, его неподатливость): “...не имеет аналогов в русской, да, пожалуй, и в мировой поэзии нашего столетия”, — пишет об эпосе Клюева Светлана Семенова, подчеркивая, что “Песнь о Великой Матери” уходит “корнями в самые животворно-архаичные глубины культуры фольклорной, религиозной, пророческой, в вещее мифологическое природо-, бого- и человекознание, ...достигает неизъяснимого пластического, живописного, словесного волшебства” [32] . Это “орнамент” — как тип культурного сознания и как умозрительный концепт. Клюева также с полным правом можно назвать одним из создателей “русской семантической поэтики как потенциальной культурной парадигмы...” [33] . Однако его базовые коды, структура “меонального повествования, “смысловая дизъюнктивность”, приемы “автометаописания” [34] существенно отличаются от аналогичных признаков поэтики Ахматовой, Мандельштама, Гумилева... Таким образом, вопрос о природе, функциях, жанровых формах воплощения эпического начала в творчестве Клюева тесно связан с двумя другими: о “семантической поэтике” и орнаментализме художественного мышления. Это требует не только ориентации на “весь корпус текстов поэта... как единый текст, самодовлеющий (хотя и принципиально открытый)” [35] , но также привлечения всех историко-культурных контекстов, к которым этот текст апеллирует. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 05-05-2007 13:11 |
|
СТИХОТВОРНЫЙ АБСУРД: МАЛЫЕ ФОРМЫ Данная группа стихотворных текстов представлена огромным набором текстов, принадлежащих все еще мало кому у нас известному классику английского абсурда Эдварду Лиру. Это: лимерики, отдельные короткие стихотворения (прибаутки), стихотворные истории, песенки, алфавиты10, ботаника11 и некоторые другие. Тексты эти были собраны в следующих его книгах: “Книга абсурда” (1846), “Еще больше абсурда” (1872), “Чепуховые песенки, истории, ботаника и алфавиты” (1871), “Смехотворная лирика” (1877) и др. Первая и вторая из перечисленных посвящены “детям и внукам графа Дерби, верным друзьям и ценителям “прыганья на одной ножке”12. Тексты же, которые мы намерены цитировать, были собраны в книге “Topsy-Turvy World”, на которую уже неоднократно приходилось ссылаться. Все цитаты в дальнейшем даются в переводе автора данного исследования. Английские тексты цитируются по вышеназванному изданию. Круг текстов таков: “Уточка и Кенгуру”, “Мистер Папа-Шесть-Ног и Мотылек”, “Метла. Лопата, Ухват и Шипцы”, “Стол и Стул”, “Сватовство Джони-Бони-Бо”, “Новые одеяния”, “Мистер и Миссис Дискобболтус”, “Шляпа Сэра Шито-Крыто”, “Чепуховый алфавит”, “Как мило знать мистера Лира”, Лимерики Думается, что это достаточный набор для того, чтобы поддержать и расширить высказанные при анализе “Охоты на Снарка” соображения. С этой целью данный анализ и предпринимается. Данные тексты также отличает отчетливая гиперструктурированность. Самый заметный в этом смысле признак - многочастность даже относительно небольших стихотворных композиций. Так, “Уточка и Кенгуру” (40 строк) состоит из пяти частей, озаглавленных римскими цифрами, “Метла, Лопата, Ухват и Щипцы”(40 строк) - из четырех, пронумерованных тем же способом, а например, довольно объемное стихотворение “Мистер и Миссис Дискобболтус” (108 строк) - даже из двух крупных глав, каждая из которых соответственно поделена на 4 и 5 частей. С подобным принципом членения мы на примере “Снарка” еще не встречались: в стихотворениях Эдварда Лира фактически пронумерована каждая отдельная строфа, что, видимо, должно представить “безумное содержание” в дискретном виде и таким образом компенсировать издержки приобщения к трудному “смыслу”. Набор маркеров внешней упорядоченности, стало быть, увеличивается еще на одну единицу: номер строфы. Из известных нам маркеров наиболее заметен рефрен. Например, в стихотворении “Уточка и Кенгуру” это конструкции “Молвит Уточка - Кенгуру” (в переводе с небольшими вариациями), начинающая и завершающая практически три части: первую, вторую и четвертую, а также “И сказал Кенгуру…” (в переводе с небольшими вариациями), начинающая и завершающая две части - третью и пятую. Ср.: 1 Молвит Уточка: “Кенгуру, Ваша Милость… какой прыжок! …………………………………………………. Прыжки - вот что мне по нутру!” - Молвит Уточка - Кенгуру 2 “Умчите меня за моря! - Молвит Уточка - Кенгуру. - ………………………………………………… Забыв про эту дыру!” - Молвит Уточка - Кенгуру. 3 И сказал Кенгуру в ответ: “Это требует размышленья… ……………………………………………….. И ревматизм моему бедру Грозит!”- сказал Кенгуру. 4 Молвит Уточки: “Пустяки! Я обдумала это дело… …………………………………………… Я теперь, как моряк курю”, - Молвит Уточка - Кенгуру. 5 И сказал Кенгуру: “В дорогу! Вышел месяц из-за куста. ………………………………………….. И любил теперь как сестру Уточку - Кенгуру. Применительно к “Уточке и Кенгуру” следует оговорить один специальный структурный акцент, который хорошо заметен и наиболее последовательно “проставлен” именно в данном тексте. Имеется в виду так называемая тавтологическая рифма. С нею мы встречаемся и в других текстах - не менее последовательно, например, в “Мистер и Миссис Дикобболтус”, где само по себе слово “Дискобболтус” часто приходится на абсолютный конец стихов, рифмуясь, таким образом, лишь само с собой (да и трудно представить себе, с чем такое длинное и “монстрообразное” слово могло бы еще рифмоваться!). Понятное дело, рифма и вообще-то есть средство, призванное не только “украшать”, но “держать” стихотворный текст (т.е. делать его структуру ощутимой), - что же касается рифмы тавтологической, то ее задача, кроме того, еще и в том, чтобы “ставить вехи” на пути движения абсурдного “содержания” - маркируя смены точки зрения (в частности!) максимально наглядным образом. И если обычная рифма просто подчеркивает структуру, то тавтологическая рифма ее задает: читатель, дважды, например, отметив случаи тождества, будет ждать их и в остальных случаях, а это как раз и означает, что “путь приобщения к тексту” ему ясен и что времени и сил на “изучение структуры” тратить не придется: время и силы можно употребить более “разумно”, а именно - на постижение “смысла”. Приведенное соображение о “вехах” касается, вне всякого сомнения, и других типов повторов - впрочем, соображение это в одном из своих вариантов уже было представлено выше и еще будет представлено в дальнейшем. Обратим внимание и на то, что повторы в “Уточке и Кенгуру” носят характер драматургических ремарок: текст организован подобно пьесе, - так что это действительно не повторы “для красоты”, но единственно для “порядка” в структуре текста. “Сватовство Джони-Бони-Бо” также строится вокруг “драматургического” рефрена (типичного, как мы уже видим, для абсурдных стихов), и это - Молвил Джони-Бони-Бо (с легкими вариациями), в конце каждой строфы повторяющегося дважды - при том, что, разумеется, “хватило бы” и одного повтора (если и этот один так уж необходим!). Рефрен из данного стихотворения - большая радость для того, кто стремится обосновать мысль о гиперструктурированности абсурдного текста как типа текста, с одной стороны, и мысль о так называемых “необязательных повторах”, работающих исключительно на структуру, а отнюдь не на “содержание”, - с другой стороны! Ср.: 1 …………………………………….. Все имущество его В чаще леса одного! Все имущество его - То есть Джони-Бони-Бо, То есть Джони-Бони-Бо. 2 …………………………………………….. “Это Леди Джингли-Джонс Взобралась на низкий плёс, Это Леди Джингли-Джонс!”- Молвил Джони-Бони-Бо, Молвил Джони-Бони-Бо. 3 ………………………………………….. Остров дик, и лес стеной! Станьте-ка моей женой, Дайте-ка мне рай земной!” - Молвил Джони-Бони-Бо, Молвил Джони-Бони-Бо. 4 ……………………………………… Пригодятся Вам весьма - Плюс моллюски задарма! Плюс от Вас я без ума!” - Молвил Джони-Бони-Бо, Молвил Джони-Бони-Бо. < ............................................> 10 ……………………………………………….. Проливает Леди слёзы, Взгромоздясь на гребень плёса, - Курам насмех эти слёзы Из-за Джони-Бони-Бо, Из-за Джони-Бони-Бо! Надеюсь, читатель поверит на слово, что в частях 5-9, пропущенных из экономии места и времени, схема повторов и сами повторы последовательно сохраняются Эдвардом Лиром. Даже на приведенных примерах легко увидеть, что стабильно воспроизводящийся рефрен в каждой очередной строфе предваряется, так сказать, частным рефреном, или внутренним рефреном строфы. Вообще говоря, количество “пустой породы” в “Сватовстве Джони-Бони-Бо” превышает просто все мыслимые нормы: убери из текста повторы - он “сократился” бы на две трети! И речь идет не только о случаях идентифицированных повторов: вся структура текста пронизана и множеством других, “мелких” рефренов и рефренообразных конструкций. Например, конструкции“Пол-свечи и пол-кровати, и кувшин - без ручки, кстати…”, “Там, где берег Коромандель”, “И от тыкв желтым желто” последовательно кочуют из строфы в строфу. Да и сама по себе целая строфа “покоится” на многочисленных повторах. Ср. хотя бы одну (произвольно взятую) строфу: 5 Плача, Леди отвечала, Руки заломив с мольбой: “Слишком поздно! И к тому ж… Мистер Джони-Бони-Бо, Вы милы мне чрезвычайно, Но легко ль начать сначала, Если в Англии - мой муж? Слишком поздно, и к тому ж Где-то в Англии - мой муж, Мистер Джони-Бони-Бо, Мистер Джони-Бони-Бо! А в стихотворении “Метла, Лопата, Ухват и Щипцы” рефреном служит и вовсе “пустая структура” динь-да-дон, тра-ла-ла - вместе с последующей легко варьирующейся строкой: 1 ……………………………………………………………… Мисс Лопата надела свой черный наряд, Синий - Миссис Метла (плюс чепцы). Динь-да-дон, тра-ла-ла! Что за песня была! 2 ……………………………………………………………………. Как Ваш носик блестящ, как головка кругла, Вы тонки и легки, как стрела! Динь-да-дон, тра-ла-ла! Чем Вам песнь не мила? 3 ………………………………………………………………………………. Можно ль быть столь жестокой, Богиня-Метла, - Пусть даже Вы вся в голубом! Динь-да-дон, тра-ла-ла! Вы неправы, Метла! 4 ……………………………………………………………. Но, несясь на рысях, стали так или сяк Все счастливы вместе опять. Динь-да-дон, тра-ла-ла! Вот такие дела. Пожалуй, нет больше смысла приводить примеры рефренов: они есть в каждом из перечисленных в общем списке стихотворений. Особняком стоят, вроде бы, лишь “Новые одеяния” и “Как мило знать Мистера Лира”. Однако и их “исключительность” только кажущаяся. Оба стихотворения строятся в соответствии с риторической фигурой, известной поэтике как параллелизм, то есть опять же структурный повтор, - так что едва ли есть смысл обособлять их от прочих. Вот, скажем, как выглядит дважды целиком (с вариациями) воспроизводящийся период из “Новых одеяний”: перед нами первая презентация одеяний Некоего Старика - во время “второй презентации” одеяния эти чуть ли не в той же (уже однажды названной) последовательности начинают поедаться напавшим на Некоего Старика зверьем: Убор головной был Буханкой Ржаной (Голова помещалась в дыре сквозной). Рубашку скроил он из Дохлых Мышей - И не было ткани теплей и нежней. Из Кролика - Трусики и Башмаки, Из Кожи - но чьей неизвестно - Чулки, Штаны и Жилет - из Свиных Отбивных (С Застежками из Шоколада на них!); Пиджак из Блинов был Вареньем украшен, Ремень из Бисквита на редкость изящен; А от бурь и ненастья надежной защитой Был Плащ, из Капустных Листочков пошитый. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 05-05-2007 13:12 |
|
Перед нами не только грамматический, но и лексический (учитывая воспроизводимость объектов), а также логический (учитывая то, что философы называют “параллелизмом мыслительных структур”) параллелизм. И так обстоит дело в большинстве стихотворений - правда, в исключительно редких случаях используется лишь какой-то один из видов параллелизма: так, в “Как мило знать Мистера Лира” это прежде всего логический параллелизм - параллелизм “схемы представления личности”: общая характеристика, внешность, привычки, занятия. Обращает на себя внимание также и инвариантность номинаций (тоже один из “сильных” видов повтора!), принятых в анализируемых текстах. Раз употребленная номинация уже не варьируется, будучи постоянным маркером героя, местности и т.п. Среди наиболее частых номинаций отметим хотя бы: рефренообразные топонимы (the Coast of Coromandel), имена собственные (Mr. Yonghy-Bonghy-Bo), прозвища (Mr. Daddy Long-legs) и мн. др. Результатом использования этого приема (на языке лингвистической прагматики он называется однотипная кросс-референция, или отсутствие номинативных подмен) оказываются своего рода стабильные лексические блоки, опять же призванные придать тексту внешний “порядок” при внутренней “беспорядочности”. Что же касается сугубо стихотворной фактуры (этот вопрос, как и в случае с “Охотой на Снарка” мы намеренно затрагиваем в конце анализа, хотя искушение начать с него было чрезвычайно большим: именно с этого ведь обычно начинают (и правильно, кстати, делают!) те, кто пытается “проникнуть в форму” художественного целого), то перед нами во всех случаях классические английские стихотворные размеры с рифмованными клаузулами (тип рифмовки чаще всего смежная и перекрестная) и обильными внутренними рифмами. Несколько примеров, просто для “порядка”: “And we’d go to the Dee, And the Jelly Bo Lee…” (The Duck and the Kangaroo, p. 43) “And the each sang a song, Ding-a-dong, Ding-a-dong…” “Ding-a-dong! Ding-a-dong! If you’re pleased with my song…” “And my legs are so long - Ding-a-dong! Ding-a-dong!” (The Broom, the Shovel, the Poker and the Tongs, p. 47, 48) “By way of a hut, he’d a leaf of Brown Bread…” (The New Vestments, p. 61) Особо следует оговорить структурную организацию “Чепухового алфавита” - как уже говорилось ранее в примечаниях, излюбленного жанра абсурдистов: алфавитов такого плана в 40-70-х годах насчитывалось десятки. Естественно, что для поэзии абсурда алфавит - идеальная форма. Строгий и заранее известный читателям (во всяком случае, взрослым, но и детям, уже знакомым с буквами, однако еще не научившихся читать) порядок следования равновеликих частей небольшого объема - что еще нужно? Эту форму можно “набивать” чем угодно: она выдержит и переживет любое безумие, оказывая достойное сопротивление какому угодно хаосу! К тому же, не надо думать о том, чтобы связывать части: части связаны изначально (и не нами), более того - смена частей тоже формальна, ибо это смена букв, а уж рефрены (хотя бы только анафорического свойства) “заданы” и подавно: в каждой части должно быть, по крайней мере несколько слов, начинающихся на одну и ту же букву! Причем “предметы”, поименованные соответствующими словами, сами собой расположатся параллельно - во всяком случае, логически параллельно! Так сказать, свободной инициативе художника - в области формы! - практически не остается места, а абсурдисту только того и надо! Твердая форма для него - залог того, что в области содержания руки развязаны полностью: есть, что называется, где разгуляться. В интересующем нас сейчас алфавите Эдварда Лира царит просто аптечный порядок: мало того, что “природные возможности” алфавита использованы полностью, - введено еще и множество дополнительных “упорядочивающих средств”. Так, каждая новая буква вводится стабильно воспроизводимой структурой: “A was…”, “B was…”, “C was…” (“А была…”, “Б была…”, “В была…”) и т.д. - по всему алфавиту, переведенному нами в как в формах настоящего времени (в основном из-за стремления убрать “родовой признак” слова “буква” (ж.р.): для английского языка задача такая, само собой, иррелевантна), так и в формах прошедшего времени (там, где этого трудно было избежать ритмически). Ср.: А - это Арка моста: Под ней портних толпа Жила и шила из холста Сто галстуков для Па. Б - Белая Бутыль, Раздутая как шар: Па наливал в нее питье И залпом осушал. В был Воришка: он Стащил бифштекс - с тех пор Па все ворчал: “Кошмарный тип! Он жулик. этот Вор!” и т.д. Сильное упорядочивающее “средство” (из дополнительных!), введенное Эдвардом Лиром - второй (после компонента собственно “буква”) регулярный компонент структуры алфавита: это “Па” (отец рассказчика, - с очевидностью, ребёнка). Это он, “Па”, вступает в “причудливые отношения” с каждой очередной буквой, совершая при этом массу глупостей, “цитируемых” ребенком на полном серьёзе “человека, уважающего возраст”. Такой сквозной герой, возникающий “где ожидали”, вне всякого сомнения, есть сильное “цементирующее средство” для и без того железобетонной конструкции алфавита. Однако это еще не всё. Эдвард Лир не ограничивается “природными” и “искусственно внедренными” свойствами и маркерами структуры алфавита. К алфавиту дается некий “довесок” - в виде своего рода “урока на закрепление пройденного материала”: каждая буква алфавита воспроизводится в этом “довеске” еще раз (!) и, естественно, реферирует к себе же самой, уже названной в, так сказать, основной части (эффект удвоения). Конструкция становится зеркальной. “Довесок” представляет собой историю о том, как одна из букв, А, разодрав руку о сук, принимает в виде советов “первую медицинскую помощь” поочередно от каждой следующей (опять же в строгом соответствии с алфавитом!) буквы - при этом понятно, что советы - на фоне повторяющейся и уже “более чем знакомой” структуры - носят совершенно абсурдный характер. Да и роль букв - безо всякого предупреждения со стороны автора - меняется вдруг разительно: теперь это не буквы (как это было в первой части), а персонифицированные сущности: понятное дело, такая “грубая подтасовка” остается нами как бы и незамеченной, и виной тому - ригидные рамки структуры, из которой не выпрыгнешь! Данная часть к тому же еще и целиком оформлена как параллелизм: лексический, грамматический и логический, мало того - зарифмована, что называется “вдоль и поперек” (концевые и внутренние рифмы), являя собой образец навеки сбалансированной конструкции, которую мы - для наглядности - приводим: А, руку разодрав о сук, вдруг закричала: “Ай!”, Б: “Ох, Бедняжка! Ох, мой друг, уймись, не причитай!”, В: “Я возьму Виолончель, утешу - лишь позволь!”, Г: “Только Грушевый кисель и сливки снимут боль”, Д: “Доктор! Доктор нужен ей: он даст покой руке”, Е: “Лишь Еда спасет, ей-ей: яйцо на молоке!”, Ё: “Ёрш зажаренный пойдёт: держу пари, пойдёт!”, Ж: “И Желе на бутерброд… нет, с ложки - прямо в рот!”, З: “Зелень в дозах небольших: салат или укроп”, И: “Лечат Иглами ушиб - и лёд кладут на лоб”, Й: “Только Йод! Один лишь Йод от всяких лечит бед”, К: “Кенгуру!.. Пусть подойдёт - и пусть он даст совет”, Л: “Лампу! Отойдите прочь! Подать горячий чай!”, М: “М-да… Морошку истолочь - и дать. И вся печаль!”, Н: “Нет, и нет, и нет, и нет! Её спасет Нуга”, О: “Можно просто дать Омлет - и вся вам недолга”, П: “Чуть Поэзии: она - так развивает мысль!”, Р: “Рюмку доброго вина и пару дохлых крыс!”, С: “Спойте Соло кто-нибудь: так веселей страдать”, Т: “Тю-ю… Турнепса раздобудь: нарезать и подать!”, У: “Два Ушата с кипятком на рану вылить ей!”, Ф: “И Форель!.. Но дело в том, что с запахом форель”, Х: “Хорошо б давать ей Хрен, по ХХ ложек в час”, Ц: “Нет, Цикорий дать взамен: уж он бы точно спас!”, Ч: “Чашку кофе ей - и пусть сыграет в “чур-меня”, Ш: “Шапку дайте ей: боюсь, прохлада ей вредна”, Щ: “Нет, Щавель - и только так! Ну, может быть, Щенка!” (…хотел вмешаться Ъ, но не придумал как, Ы, ничего не говоря, вздохнула громче всех, а Ь надулся зря - и получился смех), Я так сказала: “Вот сюда - влезай, моя отрада! Тут Ящик: нужно два гвоздя - И всё, моя отрада! Мы заколотим в нем тебя - И больше слов не надо!” Понятно, что в схему, организованную в такой степени, можно “вложить” практически любое содержание. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 05-05-2007 16:39 |
|
Б.Томашевский. Теория литературы. Поэтика ЖАНРЫ ЛИРИЧЕСКИЕ К лирическим жанрам принадлежат стиховые произведения малого размера. Тематическое развитие в лирических жанрах определяется характером стиховой речи. Стих есть существенно деформированная речь. Особенно отчетливо это в стихах тонического (равносложного) строя, где стих конструируется из известных фонических элементов (слогов ударных и неударных) и слово фигурирует не только как смысловая единица, но и как художественно-ценный звуковой комплекс. Внимание, уделяемое слову, увеличивается, слово как бы "проявляется", будучи вдвинуто в ритмическую слоговую последовательность. Слова проходят параллельными рядами, особым строем, определяющим смысл слова не менее, чем синтаксис. Помимо слова во фразе мы имеем слово в стихе и стиховые ассоциации, т.е. связи, возникающие из сопоставления слова с другим словом стиха и из положения слова в ритмическом ряду — стихе, иной раз могут подавить ассоциации фразовые. Стиховая речь есть речь тесных смысловых ассоциаций. Логическое членение в ней гораздо более дробное и однообразное, чем в речи прозаической (т.е. представляется возможность обособить почти каждое слово). Ритмический параллелизм выравнивает интонацию стиха. Стих имеет свой, слегка варьируемый интонационный распев независимо от значения предложений, влагаемых в стиховой размер. Эта независимость (или свобода) интонации от значения создает необходимость в каком-то примирении обоих рядов. Подобно тому, что мы замечаем в метафоре, примирение происходит обычно в плоскости эмоциональной. Стиховая речь есть повышенно-эмоциональная. При лирической краткости не может быть смены эмоций. Эмоциональная окраска едина во всем стихотворении и определяет его художественную функцию. Вот почему, обращаясь к лирическому творчеству, мы встречаем совершенно особый тематизм и особую конструкцию. Фабульные мотивы редки в лирической поэзии. Гораздо чаше фигурируют статические мотивы, развертывающиеся в эмоциональные ряды. Если в стихотворении говорится о каком-нибудь действии, поступке героя, событии, то мотив этого действия не вплетается в причинно-временную цепь и лишен фабульной напряженности, требующей фабульного разрешения. Действия и события фигурируют в лирике так же, как явления природы, не образуя фабульной ситуации. Возьмем стихотворение Ф. Туманского: Вчера я растворил темницу Воздушной пленницы моей, Я рощам возвратил певицу, Я возвратил свободу ей. Она исчезла, утопая В сияньи голубого дня, И так запела, улетая, Как бы молилась за меня. В лучшем случае мы здесь обнаружим хронологическую последовательность явлений, взятую за основание изложения событий. Вся сила стихотворения не в причинном сцеплении событий, а в развертывании словесной темы, в чисто выразительном нагнетании. Здесь мы обнаруживаем пользование специфической стилистической лексикой (темница — клетка, певица — птичка, "утопать в сияньи"). Неподвижная тема получает движение в варьировании выражений, вскрывающих тот или иной эмоциональный момент в основной теме. Возьмем первую половину стихотворения: в первых двух строках мы находим сообщение темы, третья строка, равно как и четвертая, повторяют ту же тему, но каждый раз в новых ассоциациях; такое же нарастание в самом выражении мы видим и во второй половине стихотворения. Лирическое стихотворение типично этой неподвижностью темы, даваемой в различных вариациях, вводимой все в новые и новые ассоциации. Развитие темы идет не путем смены основных мотивов, а путем нанизывания на эти основные мотивы побочных, путем подбора этих вторичных мотивов к одной и той же основной теме. В этом отношении лирическое развертывание темы напоминает диалектику теоретическою рассуждения, с той разницей, что в рассуждении мы имеем логически оправданный ввод новых мотивов и задачей его является обогащение знания (т.е. установление таких связей, которые не являются несомненными сами по себе, без логической обработки понятий), а в лирике ввод мотивов оправдывается эмоциональным развертыванием темы. Типично трехчастное построение лирических стихотворений, где в первой части дается тема, во второй она или развивается путем боковых мотивов, или оттеняется путем противопоставления, третья же часть дает как бы эмоциональное заключение в форме сентенции или сравнения ("pointe"). Возьмем в качестве примера элегию Языкова: Свободен я: уже не трачу Ни дня, ни ночи, ни стихов За милый взгляд, за пару слов, Мне подаренных наудачу В часы бездушных вечеров. Мои светлеют упованья, Печаль от сердца отошла И с ней любовь: так пар дыханья Слетает с чистого стекла. Первые пять строк развивают тему в отрицаниях ("уже не трачу" противопоставление прошлому), следующие 21/2 строки дают утверждение, 11/2 строки конца дают заключение в форме сравнения. Еще яснее эта трехчастность — противопоставление 1-й части 2-й (противительный союз "но") и заключительная сентенция-сравнение — в стихотворении Пушкина: П.А.О. Быть может, уж недолго мне В изгнаньи мирном оставаться, Вздыхать о милой старине, И сельской музе в тишине Душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом Я буду мыслию всегдашней Бродить Тригорского кругом, В лугах, у речки, под холмом, В саду под сенью лип домашней. Когда померкнет ясный день, Одна из глубины могильной Так иногда в родную сень Летит тоскующая тень На милых бросить взор умильный. Сравнение весьма часто заменяется сентенцией, как бы вскрывающей общее значение частной лирической темы. Вот, например, стихотворение пролетарского поэта Полетаева: Знамен кровавых колыханье На бледносиних небесах, Их слов серебряных блистанье В холодных и косых лучах. Рядов сплоченных шаг размерный И строгость бледносерых лиц И в высоте неимоверной Гудение железных птиц. Не торжество, не ликованье, Не смерти брызжущий восторг, Во всем холодное сознанье Великий, непреложный долг. Здесь функцию лирического синтеза играют мотивы последней строфы, вскрывающей значение описываемой манифестации. Уже из этих примеров видна техника лирического развития темы. Мотивы нанизываются или в порядке перечисления (последний пример), или в порядке варьирования путем ряда метафор основной темы (первый пример "Птичка"), или в порядке противопоставления мотивов: стихотворение замыкается новым мотивом, по своей природе противостоящим предшествующей цепи мотивов. Отсюда возникают 3 задачи лирического развития: 1) введение темы, 2) развитие темы, 3) замыкание стихотворения. Учитывая эмоционально-выразительное значение лирического развертывания, мы можем наметить основные приемы введения темы: обычно тема дается в ряде связанных метафор (продленная метафора — вызывающая элементы сравнения). Так, метафоры первого стихотворения связаны между собой: "темница", "пленница", "свобода" дают нам целостный метафорический ряд. Стихотворение в прямом значении говорит о выпуске птички, в метафорическом — об освобождении пленника из темницы. Другой прием, основывающийся на эмоциональном моменте лирического развертывания, — это сознательное неразличение субъекта и объекта. Поэт о внешних явлениях говорит так, как о своих душевных переживаниях, перемешивая свои внутренние впечатления и внешние образы. Отсюда — постоянное олицетворение природы в лирике, подход к мертвому явлению как к живому, одаренному чувством и разумом. Ср. стихотворение Майкова: Уж побелели неба своды... Промчался резвый ветерок... Передрассветный сон природы Уже стал чуток и легок. Блеснуло солнце: гонит ночи С нее последнюю дрему — Она, вздрогнув, открыла очи И улыбается ему. Этому противостоит объективная лирика, где тема дается путем отчетливого выделения деталей, главным образом зрительных (типично для описания природы). Таково вышеприведенное стихотворение Полетаева. Все приемы лирического развертывания сводятся к своеобразному лирическому остранению темы. О вещах известных говорится как о неизвестном. Лирическое остранение, в отличие от повествовательного, не ощущается как отступление от общего тона речи в силу своей привычности, каноничности. В силу этого остранения любая тема может быть темой лирического стихотворения. Впрочем, здесь выбор темы определяется традицией и школой. Наиболее живучей в лирике является тема природы. В конце XIX и начале XX вв. её вытесняли темы городской жизни. Типичны для лирики интимные, "домашние" темы, а также бесконечно варьируемая тема любви. Темы умирают, сменяются одни другими, борются, иногда снова воскресают и т.д. Никаких общих норм в выборе лирической темы нет. Вторая проблема — это связывание мотивов. Здесь можно указать самые разнообразные приемы. Элементарной формой связывания мотивов является грамматическое объединение их в одном грамматическом предложении, например: МИНУТНАЯ МЫСЛЬ Когда всеобщая настанет тишина И в куполе небес затеплится луна, Кидая бледный свет на парники немые, На дремлющий гранит и горы голубые, И мачты черные недвижных кораблей, — Как я завидую, зачем в душе моей Не та же тишина, не тот же мир священный, Как в лунном сумраке спокойствие вселенной. Ср. Лермонтова — "Когда волнуется желтеющая нива..."; Пушкина "Когда для смертного умолкнет шумный день..." и др. Обычно придаточные предложения такого грамматического периода служат для развития мотивов лирической темы, а главное предложение заключает в себе мотив замыкающий. Типичным примером в лирическом связывании мотивов является их параллелизм. При этом следует различать несколько типов параллелизма. 1) Параллелизм тематический. Частным случаем такого параллелизма является сравнение. Иногда такое сравнение пронизывает все стихотворение. Например: Тучки небесные, вечные странники, Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Далее Лермонтов нанизывает мотивы, учитывая все время этот параллелизм "тучки" — "я". Впрочем, сравнение обычно появляется или в качестве "проходного" мотива, возникая в связи с одним из мотивов и не распространяясь на соседние мотивы (приближаясь по своей функции к метафоре. Ср. у Лермонтова "На севере диком..." "одета как ризой она"), или служит замыканием стихотворения. Например: Стихи мои! Свидетели живые За мир пролитых слез! Родитесь вы в минуты роковые Душевных гроз И бьетесь о сердца людские Как волны об утес. (Некрасов.) В последнем случае это сравнение или дополняет цепь мотивов, вводя новый мотив, с которым сравнивается лирическая тема (см. выше пример Языкова), или дается истолкование всего стихотворения, как сравнения. См. стихотворение Лермонтова "Поэт", где дается описание кинжала, а во второй части образ кинжала истолковывается как символ поэта (обратное сравнение): "В наш век изнеженный не так ли ты, поэт..." Таково же стихотворение Пушкина "Эхо" (описание эха и заключение: "таков и ты, поэт"). В сравнении вводится сопоставление двух разнородных мотивов. Параллелизм распространяется и на однородные мотивы, например, в форме противопоставления (антитезы). Например: Его преследуют хулы: Он ловит звуки одобренья Не в сладком ропоте хвалы, А в диких криках озлобленья, И веря и не веря вновь Мечте высокого призванья, Он проповедует любовь Враждебным словом отрицанья. И каждый звук его речей Плодит ему врагов суровых, И умных, и пустых людей, Равно казнить его готовых. Со всех сторон его клянут И только, труп его увидя, Как мною сделал он, — поймут, И как любил он — ненавидя. (Некрасов.) На принципе противопоставления строятся замыкания стихотворений антитезами: "мне грустно... потому что весело тебе". Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно... 2) Параллелизм синтаксический. Мотивы нанизываются в форме аналогично построенных предложений. Вот пример, где параллелизм тематический (противопоставление) сочетается с параллелизмом синтаксическим: Жизнь без тревог — прекрасный светлый день, Тревожная — весны младые грезы. Там — солнца луч и в зной оливы сень, А здесь — и гром, и молнии, и слезы... О, дайте мне весь блеск весенних грез И горечь слез и сладость слез. (Фет.) Надо отметить, что обычно параллелизм в лирике не бывает полным. Так, в настоящем стихотворении сходство построения лишь частичное. Вариации на фоне общего сходства дают поступательное движение. Концовка строится на разрушении цепи параллелей. Ср. стихотворение Лермонтова "Ветка Палестины", где однообразно проведена вопросительная конструкция: "У вод ли чистых Иордана", "Ночной ли ветер...", "Молитву ль тихую..." и т.д. 3) Параллелизм лексический. Типичным примером такого параллелизма является анафора, когда каждый период начинается с одних и тех же слов, например: Почему, как сидишь озаренный, Над работой пробор наклоня, Мне сдается, что круг благовонный Всё к тебе приближает меня? Почему светлой речи значенья Я с таким затрудненьем ищу? Почему и простые реченья Словно томную тайну шепчу? Почему — как горячее жало Чуть заметно впивается в грудь? Почему мне так воздуха мало, Что хотел бы глубоко вздохнуть? (Фет.) Эти словесные параллелизмы иногда бывают особо прихотливы. Например, следующее стихотворение Фета все построено на параллелизмах: Буря на небе вечернем. Моря сердитого шум. Буря на море — и думы, Много мучительных дум. Буря на море — и думы, Хор возрастающих дум... Черная туча за тучей... Моря сердитого шум... Классифицировать словесные повторения можно так же, как и звуковые повторы. Отмечу лишь два приема, характерных для лирики: припев ("рефрен") и кольцо. Рефреном является замыкание строф одними и теми же словами (например, "Баюшки баю"). Например: Тихая, звездная ночь. Трепетно светит луна. Сладки уста красоты В тихую звездную ночь. Друг мой, в сиянье ночном, Как мне печаль превозмочь. Ты же светла, как любовь В тихую звездную ночь. Друг мой, я звезды люблю И от печали не прочь. Ты же еще мне милей В тихую звездную ночь. (Фет.) Кольцевым построением называется такое, в котором конец стихотворения повторяет словесные формулы, данные вначале. Например: Вы видели море такое, Когда замерли паруса, И небо в весеннем покое, И волны — сплошная роса. И нежен туман, словно жемчуг, И видимо мление влаг, И еле понятное шепчет Над мачтой приспущенный флаг? И к молу скрененная набок Шаланда вся в розовых крабах? И с берега запах левкоя... И к берегу льнет тишина... Вы видели море такое Прозрачным, как капля вина? (Н. Асеев.) Ср. стихотворение Пушкина "Не пой, красавица, при мне...", где первая строфа целиком повторяется в конце. Кольцевое построение есть один из способов замыкания стихотворения. Возвращение к исходному мотиву происходит после того, как мотив этот получил развитие внутри стихотворения. Поэтому его значение в конце обогащается ассоциациями, данными в самом стихотворении, и возвращающаяся словесная формула звучит по-новому. Впрочем, кольцевое повторение часто совершается и внутри стихотворения, например, каждая строфа может представлять собою кольцо. Такого типа стихотворение Пушкина "Певец": Слыхали ль вы за рощей в час ночной Певца любви, певца своей печали? Когда поля в час утренний молчали, Свирели звук унылый и простой Слыхали ль вы? Во второй строфе также повторены "Встречали ль вы", в третьей — "Вздохнули ль вы". 4) Параллелизм строфический. Важную роль играет нанизывание мотивов в форме аналогичных строф. Большинство стихотворений написано в строфической форме повторяющихся четырехстиший, шестистиший или иных стиховых комбинаций. Инерция ритма и строфики увлекает за собой внимание. Особенно ясно это, если мы имеем дело с необычной, прихотливой строфой, например: Лесом мы шли по тропинке единственной В поздний полуночный час. Я посмотрел — запад с дрожью таинственной Гас. Что-то хотелось сказать на прощание, Сердца не слышал никто; Что же сказать про его обмирание? Что? Арфа, ты арфа моя тихострунная, Ветер и бурю терпи! Светит ли день, или ночь полнолунная, Спи. Думы ли реют тревожно-несвязные, Плачет ли сердце в груди, Скоро повысыплют звезды алмазные, Жди. (Фет.) 5) Параллелизм интонационный. Часто мотивы развиваются в ряде предложений с однообразной интонацией, например однообразно восклицательной или однообразно вопросительной. Обычно в замыкании стихотворения имеется изменение интонации. Так, в следующем стихотворении Фета, где развитие темы происходит на фоне однообразных интонаций, замыкание совершено при помощи смены интонации и одновременно — введением мотива сравнения (типа обратного сравнения): О, первый ландыш! Из-под снега Ты просишь солнечных лучей... Какая девственная нега В душистой чистоте твоей! Как первый луч весенний ярок! Какие в нем нисходят сны! Как ты пленителен, подарок Воспламеняющей весны! Так дева в первый раз вздыхает О чем? — неясно ей самой, — И робкий вздох благоухает Избытком жизни молодой. Система интонационных соответствий, как и система лексических повторений, может быть весьма сложной. Когда она построена так, что определяет собой художественную конструкцию стихотворения, тогда мы имеем дело с явлением, которому Б.М. Эйхенбаумом присвоено наименование "мелодика стиха". Надо сказать, что ни один из перечисленных видов параллелизма не может быть совершенным. На фоне параллелизма всегда должно быть движение темы, т.е. два параллельных мотива могут быть лишь отчасти тождественными, в другой своей части представляя различия, необходимые для перехода к следующему мотиву Что касается приемов концовки, то некоторые из этих приемов были рассмотрены выше. В общем принципы концовки лирического стихотворения сводятся к разрушению инерции в тематическом развитии. Если определилось направление, в каком развиваются мотивы один из другого, то замыкающий мотив обычно нарушает этот закон, уклоняясь как бы в сторону (см., например, последний стихотворный пример). Главное в замыкающем мотиве — это его новизна сравнительно с мотивами средними. Впрочем, иногда в стихотворении может и не быть ясно выраженной концовки. Тогда обычно, в силу психологической привычки к концовочным стихотворениям, мы приписываем последнему мотиву значение концовочного и начинаем осмыслять его не в ряду прочих, противопоставляя его всему стихотворению в целом. Вот, например, стихотворение Фета "Горная высь": Превыше гор, покинув горы И наступя на темный лес, Ты за собою смертных взоры Зовешь на синеву небес. Снегов серебряных порфира Не хочет праха прикрывать: Твоя судьба — на гранях мира Не снисходить, а возвышать. Не тронет вздох тебя бессильный, Не омрачит земли тоска; У ног твоих, как дым кадильный, Вияся, тают облака. Если к этому стихотворению примыслить еще одну строфу, то третье четверостишие звучало бы так же, как и второе, с той же интонацией и с тем же весом значения. Но положение ее в конце обязывает нас прочесть ее с совершенно особой интонацией и с особенной подчеркнутостью. Последний мотив в силу того, что он находится на конце, получает большую вескость, и мы готовы его истолковать как метафорическое выражение чего-то недосказанного. Эта привычка наша к определенным лирическим связям дает возможность поэту путем разрушения обычных связей создавать впечатление возможного значения, которое бы примирило все несвязные моменты построения. На этом построена так называемая "суггестивная лирика", имеющая целью вызвать в нас представления, не называя их. Многочисленные примеры такой лирики можно встретить у современных поэтов, например у А. Ахматовой или О. Мандельштама. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 05-05-2007 16:41 |
|
Следует отметить, впрочем, возможность и незамкнутого стихотворения, где отсутствие концовки имеет целью вызвать впечатление лирического фрагмента, обломка, где самая незаконченность входит в художественный замысел. Эти стихотворения-фрагменты встречаются в поэзии первой половины XIX в. довольно часто. Впрочем, "фрагментарность" стихотворения обычно достигалась не путем разрушения концовки, а путем разрушения зачина. Лирические произведения в различные эпохи делились на различные жанры. И по отношению к лирике XIX в. сыграл ту же роль, что и по отношению к другим родам: жанры смешались, и их строгие когда-то границы распались. Тем не менее жанры эти, перестав появляться в чистом виде, не исчезли. Высокая лирика прежде объединялась под общим названием "ода". К началу XIX в. сохранялся только один вид оды — ода торжественная, лирическое стихотворение на значительную тему (например, на политические события, на какой-нибудь отвлеченный тезис философского или нравственного порядка), имитирующее ораторскую речь. В чистой форме мы видим оды у Ломоносова, Петрова и их современников. Следует сказать, что уже в конце XVIII в. ода стала эволюционировать. Так, Державин, пользуясь традиционной формой оды (одический стих — четырехстопный ямб и известным образом срифмованная строфа из 10 стихов), снизил ее тематику и лексику. Ода — как риторическая лирика — отличалась усиленным применением стилистических приемов (тропов и "фигур") и диалектическим развитием мотивов. Объем оды обычно превышал средний объем лирического стихотворения. В современной поэзии к типу оды приближаются некоторые стихотворения Маяковского, посвященные революции, "Скифы" Блока, значительное количество стихотворений на гражданские темы разных поэтов. В конце XVIII в. с одой боролась за преимущественное значение элегия, разрабатывавшая интимную тематику, в соответствующем эмоциональном плане (типичны любовные элегии, распространены были элегии, окрашенные эмоциями печали, горести, уныния; эти последние и создали типичное представление об элегии как о печальном стихотворении). От элегии, после падения этого жанра как строгой формы, противостоящей оде, развилась романсная лирика середины XIX в. представленная в стихотворениях Фета, Полонского, Ал. Толстого и мн. др. Крупным жанрам — оде и элегии — противопоставлялись в XVIII в. мелкие жанры, представителями которых являются эпиграмма и ее разновидности (надпись, мадригал и т.п.). В античной литературе эпиграммой называлось всякое стихотворение малых размеров. К концу XVIII в. понятие эпиграммы сузилось, и его стали прилагать единственно к малым стихотворениям (от 2 до 8 стихов, редко больше) с комической тематикой. Различали эпиграмматическую сказку (стихотворный анекдот) и сатирическую эпиграмму: стихотворение, направленное к осмеянию определенного лица или события. Последний вид эпиграммы дошел и до нас и время от времени в журналах появляются эпиграммы злободневного характера. Эпиграмма состоит обычно из посылки, вводящей в описываемые обстоятельства, и неожиданной остроты в заключение (pointe), представляющей комически контрастирующий вывод из посылки. Расцвет эпиграмм относится к XVIII в. и началу XIX в., после чего она быстро пришла в упадок. От чистой лирики следует отделить стихотворения небольшого объема, в которых тематика фабулярна, т.е. присутствует рассказ о ряде событий, связанных в причинно-временную цепь и замыкающихся развязкой. Фабулярные стихотворения ныне объединяются под общим наименованием "баллады". Не следует забывать, что этот термин очень сильно менялся в различные времена у разных народов. До XVIII в. слово "баллада" значило во Франции особую строфу и совершенно не имело в виду особой тематики. В начале XIX в. в литературе модным было подражание шотландской балладе (род народной песни), и вскоре под словом "баллада" стали объединять стихотворения, тема которых разрабатывала предания и мифы народной устной литературы (фольклора). Вскоре утратилось чувство имитации фольклора — балладой стали называть всякую стихотворную повесть о чудесном, затем отпал и элемент фантастики, и под балладой стали разуметь стихотворение с фабулой. Среди современных поэтов баллады писал Н. Тихонов. От баллады следует отличать другой род фабулярной поэзии — басню. Басня развилась из аполога — системы доказательств общего положения на примерах (анекдоте или сказке). Как стихотворная форма она привилась в Европе в XVII в. под влиянием поэтической деятельности Лафонтена. Басня, будучи построена на фабуле, дает повествование как некоторую аллегорию, из которой извлекается общий вывод — мораль басни. В настоящее время басня вымерла, если не считать сатирического к ней обращения (например, во Франции в XIX в. Лашамбоди, у нас Демьян Бедный), и лишь по традиции удерживается в начальном школьном воспитании, неотъемлемым элементом которого считается разучивание наизусть басен Крылова. Кроме этих малых лирических жанров, всегда существовали средние по объему лирические жанры, занимающие промежуточное место между лирикой и поэмой. Таковыми в начале XIX в. были сатира, послание и т.п. Жанры эти ныне не культивируются, и изучение их всецело принадлежит истории литературы. Отмечу лишь, что в современной поэзии намечается усиленное стремление к созданию новых форм этих средних стихотворных жанров. Современная поэма обычно не превышает объемом послания или сатиры XVIII в |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:37 |
|
Александр Галич. Генеральная репетиция 1974 ...Дай мне неспешно и нелживо Поведать пред Лицом Твоим О том, что мы в себе таим, О том, что в здешнем мире живо. О том, как зреет гнев в сердцах... ПЕРВАЯ ГЛАВА Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка. Горе тебе, Карфаген! Здесь, в это утро, очередная Студия Художественного театра - впоследствии она будет называться Театр-Студия "Современник" - показывала генеральную репетицию моей пьесы "Матросская тишина". Впрочем, и студийцам, и мне - автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но, при этом, запрещена как-то странно. Официально она запрещена не была, у нее - у пьесы - даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, - но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали - минуя пишущие машинки секретарш - приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо - таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, - вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола и приказало прекратить репетиции "Матросской тишины". - Но, позвольте, - растерялся директор, - спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?! Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось: - Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!.. Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась "Матросская тишина". И нигде никто ничего не говорил прямо - а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься! И вот - перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актеров тетрадочки с ролями, режиссерыпостановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов. Когда-нибудь, на досуге, они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы... И только маленькая Студия - еще не театр, не организация с бланками и печатью - упорно продолжала на что-то надеяться. То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы парторгом ЦК при МХАТе, неким Сапетовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет "строгача" - строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость. Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас - ни я, ни студийцы - не могли понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивнопатриотическую пьесу. В ней никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки, совсем напротив: она прославляла - правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое. Я начал писать эту пьесу весною Сорок Пятого года. Это была воистину удивительная весна! Приближался день победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актерством и решил заняться драматургией. Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось - а может быть так оно и было на самом деле - в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникло в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории. И мы не знали - не хотели знать, а потому и не знали, - что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы - вольные - распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих зэков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград" и вываляют в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенко; что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел, с грехом пополам, играть на рояле "Сентиментальный вальс" Чайковского, будет, с высокомерием невежды, обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смысла музыки. А еще чуть позже начнется и вовсе страшное - дело Вознесенского, убийство Михоэлса, физическое уничтожение Еврейского театра и Еврейского Антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унизительная в своей ничтожности "борьба за приоритет", знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой лысенковцы навсегда - так они думали - покончат с "лженаукой" генетикой. Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года - какой кровавый шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидает нас в ближайшие годы?! Еще несколько лет назад я, не задумываясь, ответил бы - нет, не могли знать! Но теперь - ...На этом горьком рубеже, Когда обрублены канаты И сходни убраны уже... Теперь, сейчас, когда я, - да и не один я, многие - с пристрастием допрашиваем сами себя и поверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определенностью сказать - нет, ничего мы знать не могли! Как же так?! Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унизительной проверке - а подчас и не только проверке - подвергаются и старики, и малыши, жившие "под немцем", или, как деликатно писали в газетах, "оказавшиеся на временно оккупированной территории" ! Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобожденных "родными советскими войсками"! Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев? Знали, но... Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки салютов, гремели торжественные залпы, пели и танцевали на Красной площади, строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина - и по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что все будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон - за тем углом, за тем поворотом вдруг откроется и заплещется море, которому здесь отродясь быть не положено, - эта счастливая и, в глубине своей, трусливая вера заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всем, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость. В те дни я начал писать эту пьесу. Потом, по вполне естественным причинам, я ее отложил в сторону, стал - без особых, между прочим, угрызений совести - сочинять водевили и романтическую муру, вроде "Вас вызывает Таймыр" и "Походного марша", и вернулся к "Матросской тишине" только много лет спустя, после двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущевым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с легкого пера Ильи Эренбурга получила название "оттепели". Название это, кстати, при всей своей пошлости, довольно точно отражает ту насморочно-хлипкую кутерьму, ту восторженно-потную неразбериху, которая эту пору отличала. И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью! Я дописал пьесу, отпечатал ее в четырех экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому театру я ее почему-то - хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом - не предложил. И вот, однажды, без предварительного звонка, ко мне пришли актер Михаил Козаков (когда он работал в театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе "Походный марш" главную роль) и актер Центрального Детского театра Олег Ефремов - один из основателей Театра-Студии "Современник", а ныне главный режиссер Московского Художественного театра. Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции с тем, чтобы Студия открылась, как театр, двумя премьерами: пьесой В. Розова "Вечно живые" и "Матросской тишиной". Так начался год нашей дружной, веселой, увлеченной работы - которая в это зимнее утро должна была завершиться никак не ожиданным нами финалом. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:38 |
|
Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на "генералку" никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетеров, вымуштрованных наподобие кремлевской охраны. Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетерами и держал в руке составленный Солодовниковым список. Увидев меня с женой, он приветливо, хотя и несколько печально, улыбнулся, кивнул и сказал билетерам: - Пропустите! В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса: - Почему это одних пускают, а других... - Это АВТОР! - Ну и что же?! - хрипло сказала какая-то девчушка. И она была, разумеется, права! Что есть автор для театральных чиновников, как не докучливый недотепа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обремененному и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами? ( А тут, на тебе - читай пьесу, или того пуще - трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каковых следует этот спектакль запретить! Так при чем же, спрашивается, автор?! Решительно ни при чем! ...Несколько лет спустя, мы с одним приятелем сочиним шуточную песню: Мы поехали за город, А за городом дожди, А за городом заборы, За заборами вожди! Там - трава несмятая, Дышится легко! Там - конфеты мятные, Птичье молоко! За семью заборами, За семью запорами, Там - конфеты мятные, Птичье молоко! |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:39 |
|
О упоение - величайшее из величайших! О непреходящая страсть и забота партийно-правительственных чиновников - создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвигание заборов и навешивание табличек с надписью: - "Посторонним вход воспрещен"! - "Посторонним вход строго воспрещен"! - "Посторонним вход строжайше воспрещен"!.. Я видел такую табличку, повешенную дирекцией какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка и, возможно, не знали бы мы с вами строк: ...Там некогда и я, Сердечной муки полный... Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы мест, сидело человек пятнадцать, не больше. И еще усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нем долго сушили плохо простиранное белье и курили скверный табак. Этот запах будет еще долго меня преследовать и даже иногда сниться. Мне вообще снятся запахи: - Я усну, и мне приснятся запахи - Мокрой шерсти, снега и огня!.. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:44 |
|
...Запахи Севастополя - первого города, живущего в моей памяти, - были летними: мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме "Оборона Севастополя" пахло совсем замечательно - скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем. Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы - мимо окон, за которыми расстилались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами. Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу, и кораблей - и военных, и торговых, и парусников - навидался предостаточно. А вот у окна, выходившего на четвертый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь все было замечательно: и реющий в дымном тумане Андреевский флаг, и раскаленные жерла пушек, и суетящиеся возле этих пушек орудийные расчеты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда боевые кони. А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь. Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из открытого окна, чтобы разглядеть еще лучше - куда именно ранен морячок и почему у него так странно подвернута нога - я высунулся, наклонился, и с головы моей слетела матросская шапочка и упала на руки сестре милосердия. И тут я не то чтобы испугался - я просто-напросто окаменел. Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное - гром, молния, Божья кара! Но ничего не произошло. Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом - и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже - хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чем не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошел к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли - а вернее сказать, с пола - мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул ее - оттуда? - нам. - Спасибо, - сказала мама, - большое спасибо? - Не об чем говорить, мадам! - весело, с певучей южной интонацией ответил сторож. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:45 |
|
...А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весною и летом. Может и впрямь - есть летние города и зимние города?! Я отчетливо помню запах снега на Чистых прудах, запах крови во рту (какой-то великовозрастный болван уговорил меня, в лютый мороз, попробовать на вкус висевший на воротах железный замок), запах мокрой кожи и шерсти - это сушились на голландской печке мои вывалянные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама. ...Я усну, и мне приснятся запахи Мокрой шерсти, снега и огня!.. ...В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной - человек десять - была группа административных работников Художественного театра и каких-то незначительных чиновников из Управления культуры. Сапетов - наш защитник и друг - на репетицию не пришел, и возглавлял эту группу важный, в хорошо сшитом костюме, Александр Васильевич Солодовников. Человек неглупый, но решительно ничтожный, он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и, во искупление своего подмоченного социального происхождения, служил и прислуживал власть имущим с таким старанием, что, постоянно пересаливая, совершал какие-нибудь промахи - и тогда на некоторое время он исчезал, словно проваливался в небытие, из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета - Художественного театра. Большого театра. Малого театра. Комитета по делам искусств. Министерства культуры - и так далее, и тому подобное. Если Барон в пьесе Горького "На дне" говорит, что он всю жизнь только и делал, что переодевался, то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое. А табличку со скромной и лаконичной надписью "Директор А. В. Солодовников" он, верно, носил в портфеле - сам привинчивал ее к дверям, сам отвинчивал. ...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов - художественный руководитель Ленинградского Большого Драматического театра имени Горького. Решительно непонятно - как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу, которой воспользуется Солодовников, когда, после окончания спектакля, возникнет долгая и неловкая пауза. Человек по-настоящему талантливый, Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире, благодаря своему дарованию, энергии, даже некоторой смелости. Но одно дело - пробиться наверх. И совсем другое - на этом верху удержаться. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:46 |
|
Тут уж никакой творческий дар, никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут. И начинается позорный путь компромиссов, сделок с собственной совестью, рассуждений, вроде - ну, ладно, поставлю к такому-то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу, но уж зато потом... Но и потом будет юбилей и очередная торжественная дата - в нашей стране они следуют друг за другом непрерывною чередой - и: "Все мастера культуры, все художники театра и кино должны откликнуться, обязаны осветить, отобразить, увековечить, прославить!"... И откликаются, освещают, отображают, увековечивают, прославляют! И не наступит, никогда уже не наступит это заветное "потом" - вянет талант, иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово "смелость". ...Когда мы с женою вошли в зал и заняли места - где-то, примерно, ряду в пятнадцатом, - все головы обернулись к нам и на всех лицах изобразилось этакое печально-сочувственное выражение - таким выражением обычно встречают на похоронах не слишком близких родственников усопшего. А Солодовников посмотрел на меня особо. Солодовников посмотрел на меня так, что я, сам того не желая, усмехнулся. Я хорошо, на всю жизнь, запомнил подобный взгляд. ...После того, как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена - сто с лишним лет тому назад - принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года, во время короткого наезда в Москву, Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою, только что законченную, трагедию "Борис Годунов". В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок, зал был разделен на целых четыре квартиры - две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор; две по левую - окнами в переулок, и между ними длинный и темный коридор, в котором постоянно, и днем и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка. Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным "Бориса Годунова". А во дворе, в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по старинке называли "службами", жил дворник Захар. Был он добрейшей души человек, но горький пьяница. В конце концов, он допился до белой горячки и умер. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:48 |
|
Жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой, в деревню. Собралась она быстро, а перед отъездом, вроде бы на прощанье, устроила распродажу оставшихся после Захара и ненужных ей в деревне вещей. Прямо во дворе, на деревянном столе, очищенном от снега и застеленном газетами, было разложено для всеобщего обозрения какое-то немыслимое шмотье - все, что попадалось Захару в те недавние смутные годы, когда в Веневитиновском доме, чуть не каждый месяц - а то и чаще - сменялись жильцы. Одни уезжали - неведомо куда, другие приезжали - неведомо откуда. И все они что-нибудь бросали, оставляли. А Захар подбирал. И теперь это брошенное и подобранное лежало на деревянном столе, под открытым небом, на желтых газетах - и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозненную обувь, на искалеченные люстры, на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками, на всевозможнейшие деревяшки и железки неизвестного назначения. А совсем с краю, уже даже и не на газете, как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая, лежал альбом с марками. Альбом был очень толстый и очень замурзанный. Марки в него были вклеены как попало - неряшливо и небрежно, иные прямо оборотной стороной к бумаге. Наклеивал их, видно, какой-то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень толстый. И марок в нем было очень много. И когда я спросил у жены Захара, сколько она за него хочет, она - не взглянув в мою сторону и даже, кажется, не разобрав, к чему именно я прицениваюсь, равнодушно ответила: - Пять гривен. Я понимал, что пятьдесят копеек - это большие деньги, но я всетаки выпросил их у отца. И я купил этот альбом. Несколько дней подряд я, как скупой рыцарь, подсчитывал количество не испорченных (не "бракованных" - так полагалось говорить) марок в "Альбоме Захара". Их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук. В основном это были русские дореволюционные марки. Как большинство начинающих, я мечтал о "треуголках" с далекого острова Борнео, о черных лебедях Тасмании и Новой Зеландии, о красочных марках Бельгийского Конго. А тут все были какие-то двуглавые орлы и унылые портреты государей-императоров. Но я не огорчался. Я знал, что есть чудаки, которые собирают именно старые русские марки, что можно совершить обмен - но для этого полагалось, по всем законам, определить хотя бы приблизительную ценность марок в "Альбоме Захара". Нужен был каталог. А каталог, даже плохонький (я уж не говорю о знаменитом французском каталоге Ивера) стоил так дорого, что я и заикнуться не смел, чтобы мне его купили. Но и тут отыскался выход. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:50 |
|
Недалеко от нашего дома, у Мясницких (Кировских) ворот находился Главный Почтамт. И ежедневно, часов с двух и до позднего вечера, в здании Почтамта, у окошечка, за которым красномордый старик продавал открытки и марки, собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы. Не было тогда, наверное, ни клуба, ни филателистического общества, и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь, на этом неприютном и шумном пятачке. Прелюбопытнейшее это было зрелище - азартные мальчишки, вроде меня, мал мала меньше, и почтенные седобородые старцы, пожилые мужчины этакого профессорского обличья - в пенсне и старомодных глубоких калошах, и мятые юркие личности неопределенного возраста, общественного положения и даже пола. И у всех, не исключая самых седых и почтенных, были прозвища. Так, например, глава всего этого сборища, непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики, длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался "Дядя Меша" или "Мешок". Здесь можно было - купить, продать, совершить обмен, получить справку и консультацию и, что самое главное, у красномордого "дедушки в окошке" был каталог Ивера, в который он разрешал заглядывать всем желающим. И вот, я отправился на Главный Почтамт. Для начала я взял с собой только одну марку - ту, которую я по неизвестным причинам особенно не взлюбил. Марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная: большая, квадратная, с невыразительным рисунком и надписью "Русский телеграф". ...В ответ на мою робкую просьбу, "дедушка в окошке" взял со стола вожделенный, в синем матерчатом переплете, каталог Ивера и, еще не давая его мне, коротко спросил: - Какая страна? - Россия. "Дедушка в окошке" перелистал каталог, нашел нужную страницу, заложил ее бумажной полосой и протянул, наконец, каталог мне. Я взглянул на заложенную страницу и обомлел. Некрасивая, большая, почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью "Русский телеграф", словом, та самая марка, которая - запрятанная в пакетик - лежала сейчас у меня в нагрудном кармане, открывала раздел марок России. Она была отмечена тремя звездочками, что, кажется, означало крайнюю степень редкости, и стоила, если мне не изменяет память, не то двадцать пять, не то тридцать пять тысяч франков. - Ну, давай каталог! - проворчал "дедушка в окошке" и, увидев на моем лице выражение идиотского восторга, граничащего с испугом, поинтересовался: - Ты чего? Я молча показал ему марку. "Дедушка в окошке" издал горлом какой-то булькающий странный звук, и окошко внезапно закрылось. Через мгновение (случай небывалый!) дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и прямиком направился к дяде Меше. Я уж и не знаю, что он ему там сказал, но только дядя Меша, мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно франтоватым молодым человеком, обернулся, поглядел на меня и, не здороваясь, протянул длинную худую руку: - Покажите!.. Это ваша марка? - спросил он у меня через секунду и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой. - Вот что, - сказал дядя Меша, - я сегодня же покажу эту марку экспертам... Завтра ровно в три часа я буду здесь! Если ваша марка не подделка, не "фальшак", то я предложу вам за нее чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен!.. Будьте здоровы!.. ...Но назавтра - ни в три, ни в четыре, ни в пять - дядя Меша на Почтамт не пришел. Он явился только на третий день и когда, еще издали, я увидел, как он проталкивается сквозь тяжелую вращающуюся дверь, я-не помня себя от радости - со всех ног бросился к нему. - Здравствуйте! - Мое почтение?! - удивленно, холодно и небрежно ответил дядя Меша. - Ну, как моя марка? - спросил я, глупо улыбаясь. Лохматые брови дяди Меши полезли вверх: - Ваша марка? Какая ваша марка? - Ну, как же?! - залепетал я, уже чувствуя, что происходит что-то ужасное и непоправимое. - Ну, вы же помните... Вы взяли у меня марку... "Русский телеграф"... - "Русский телеграф"?! Дядя Меша скорчил презрительную усмешку. - Милостивый государь! - сказал он, добивая меня окончательно, поскольку ни до, ни после никто не называл меня "милостивым государем", - я занимаюсь филателией больше сорока лет... Только недавно мне впервые удалось достать "Русский телеграф" - и то в довольно плохой сохранности! Я знаю коллекционеров - настоящих коллекционеров, которым за всю жизнь так и не посчастливилось достать этот раритет... Что такое "раритет" я не знал, но мне уже было все равно. Несколько мятых личностей обступили нас, с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору. Усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее: - Позвольте, позвольте... Теперь я припоминаю... Да, действительно, вы дали мне на обмен марку, но она оказалась такой бессовестной, такой грубой подделкой, что я ее просто-напросто выбросил!.. Великое правило "черного рынка", первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников - обманутого следует объявить обманщиком! ...Весь год ни валко и ни шатко, Все то же в новом январе. И каждый день горела шапка, Горела шапка на воре! А вор белье тащил с забора, Снимал с прохожего пальто И так вопил: - Держите вора! - Что даже верил кое-кто! |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 11 12 13 14 15 16 17 Next>> |
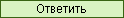
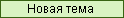
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |