
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 12 13 14 15 16 17 Next>> |
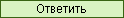
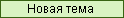
|
| Автор | Сообщение |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 22:52 |
|
Как выяснилось - эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова. ...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек. Помню только, что они были почти пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы - пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное слово, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьи: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК - Соловьевой. Причем, как-то так получилось по сложнейшей системе партийночиновной иерархии, что дамочка из МК (в платье кирпичного цвета) была почему-то главнее дамочки из ЦК (в платье бутылочного цвета) и, как говорили, они далеко не всегда и не во всем ладили. Но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. В довершение пугающего сходства у обеих дамочек был насморк и они, время от времени, почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы-пуговки и чинно запихивали платочки в рукава бутылочного и кирпичного платья. О чем они шушукались, кто знает! Уж наверняка не о Студии, не о пьесе, не о спектакле. Даже (я допускаю и это!) не о государственных делах, а скорее всего - о чем- нибудь уютном, мирном, домашнем: о здоровье, о детях, о том, как готовить капустные котлеты - с яйцом или без. Есть три раза в день хотят все, даже палачи. ...Когда-то, в тысяча девятьсот сорок девятом году, я, как молодой кинематографист, был приглашен на торжественное собрание в Дом Кино, посвященное избиению космополитов от кинематографа. Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были, поначалу, обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке. Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья - драматург Блейман, критики Оттен, Коварский. Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом Кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду - они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгоям, безродным космополитам, Иванам и Абрамам не помнящим родства!.. А вел собрание, председательствовал на нем, управлял им Михаил Эдишерович Чиаурели - любимый режиссер и непременный застольный шут гения всех времен и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина. Зычным и ясным голосом Чиаурели объявлял фамилию очередного оратора, что-то задумчиво чертил в блокноте, поворачивал к говорившему свой медальный - как у Остапа Бендера - профиль, то хмурился, то язвительно усмехался, то неодобрительно поджимал губы. Он негодовал, он скорбел, он переживал. И вдруг, поглядев в зал, он увидел меня и что-то изменилось в его лице. Он даже чуть приподнял руку и, встретившись со мной взглядом, несколько раз призывно покивал мне головой. Я похолодел. Я понял, что после уже объявленного перерыва Чиаурели хочет, чтобы выступил я и от имени молодых заклеймил кого положено заклеймить и заверил кого положено заверить - в том, что уж мы-то, молодые, не подведем, не подкачаем, не посрамим! "Надо смываться!" - решил я. А Чиаурели все продолжал призывно кивать мне головой и я мысленно обругал своего ни в чем не повинного младшего брата, на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Эдишеровичем. ...Когда объявили перерыв, я ринулся к выходу, но меня почти мгновенно перехватил администратор Дома Кино: - Вас просил задержаться товарищ Чиаурели, он хочет с вами поговорить!.. Чиаурели спустился со сцены в зал, подошел, взял меня дружески под руку, отвел в угол. Задумчиво, как бы изучающе глядя мне в лицо, он негромко спросил: - Слушай, это правда, что у тебя больное сердце? - Правда, правда, Михаил Эдишерович, - заторопился я, надеясь, что это обстоятельство поможет мне отказаться от выступления, - правда! Но уже следующий вопрос Чиаурели меня буквально ошеломил: - Слушай, а сколько раз ты не боишься? Я ничего не понял; - Как это - "сколько раз"? - Ну, ты понимаешь, - Чиаурели повертел пуговицу на моем пиджаке и печально улыбнулся, - у меня тут, в Москве, одна очень прекрасная девочка... Цветочек!.. Но когда я ее... - он употребил, как нечто совершенно естественное, грубое непечатное слово, - больше двух раз, у меня начинает болеть сердце! А сколько раз ты не боишься?.. ...Так вот о чем он думал, этот почетный председательствующий на торжественном аутодафе, вот какая мысль томила его и не давала ему покоя, вот о чем он размышлял, делая вид, что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского. Теперь я знаю, что означало покачивание головой, поджимание губ, саркастическая усмешка! |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 14-05-2007 23:03 |
|
...Когда мы с женою заняли свои места. Солодовников встал. Он подошел к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек. Кирпичная кивнула. - Олег Николаевич! - позвал Солодовников. В проеме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова. - Олег Николаевич, - сказал Солодовников и посмотрел на часы, - я думаю - будем начинать!.. А то товарищи, - он значительно указал на бутылочную и кирпичную, - торопятся! - Хорошо, Александр Васильевич!.. Ефремов скрылся и через мгновение, когда в зале погас свет, снова появился на авансцене в луче бокового софита и начал - он исполнял в моей пьесе роль Чернышева и, одновременно, рассказчика - читать вступительную ремарку: - Детство. Город Тульчин. Первая пятилетка. Август одна тысяча девятьсот двадцать девятого года. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными, почтительными стайками, ходим мы, мальчишки. В ту пору нам было по десять - двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками... Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем - отец, Абрам Ильич, и Давид - они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось - их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на места. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих... ...Двинулся занавес. Так как спектакль уже перестали финансировать, то декорации были сооружены из так называемого "подбора" - кое-что удалось смастерить самим, кое-что выпросить в постановочной части Художественного театра. ...Ефремов медленно, спиною к зрительному залу - словно разглядывая внимательно то, что происходит на сцене, перешел из левой кулисы в правую, остановился и, вполоборота к залу, договорил слова вступления: - Вечер. Абрам Ильич Шварц (актер Е. Евстигнеев), маленький пожилой человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные красным карандашом. Давид (актер И. Кваша) стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, слегка вздернутый нос и оттопыренные уши. Он играет на скрипке, время от времени умоляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы-ходики. У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек - кладовщик Митя Жучков (актер И. Пастухов). Ефремов слегка понизил голос: - Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с Богом. За окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте: - Сереньку-у-у! ...Ефремов скрылся в кулисе, и сцена, до тех пор неподвижная, ожила: запиликала скрипка, защелкали костяшки на счетах, где-то далеко протяжно прокричал женский голос: - Сереньку-у-у! |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 15-05-2007 15:07 |
| Жаль,что я это ранее читал | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 15-05-2007 20:21 |
| Ха, а где взять то, что Вы раньше не читали ? | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 15-05-2007 20:22 |
| Тем более, у меня еще есть некоторый зазор по времени, чтобы попытаться наверстать))))) | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 16-05-2007 18:40 |
| Да тьма. Всё остальное. | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 16-05-2007 19:19 |
|
София Парнок РОНДО Я вспомню все. Всех дней, в одном безмерном миге, Столпятся предо мной покорные стада. На пройденных путях ни одного следа Не минуя, как строк в моей настольной книге, И злу всех дней моих скажу я тихо «да». Не прихотью ль любви мы вызваны сюда, — Любовь, не тщилась я срывать твои вериги! И без отчаянья, без страха, без стыда Я вспомню все. Пусть жатву жалкую мне принесла страда, Не колосом полны — полынью горькой — риги, И пусть солгал мой бог, я верою тверда, Не уподоблюсь я презренному расстриге В тот бесконечный миг, в последний миг, когда Я вспомню все. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 21-05-2007 12:42 |
|
Человечек, Луна и Николай как синонимы, или попытка исследования полноты Ноябрь 6th, 2006 “Анонимное письмо” Человечек, Луна и Николай отнюдь не только потому синонимы, что в известном смысле (во всяком случае, автору данной статьи известном) все слова - синонимы. Хотя даже одного этого было бы вполне достаточно, чтобы прямо тут же и закончить статью, коротко попрощавшись с уже горячо любимыми тобою читателями. Тем более, что читатели, особенно знающие, что синонимы - это слова, которые обозначают одно и то же, но звучат по-разному, уже, вне всякого сомнения, согласны с автором. Ибо очевидно следующее: все слова обозначают одно и то же. (Осип Эмильевич Мандельштам: “Ни одно слово не лучше другого”). И понятно, что вопрос о том, означают ли два разнозвучащих слова одно и то же, есть лишь вопрос масштаба. Скажем, европейская часть России, Германия и Дания, при “немасштабном подходе”, - вещи совершенно разные. Но стоит сменить масштаб - и все они превращаются (становясь синонимами) в Европу, отличающуюся от Америки. При смене масштаба на еще более крупный отличия между Европой и Америкой перестают быть существенными: Европа и Америка, становясь синонимами, начинают обозначать одно и то же - планету Земля. Продолжающееся укрупнение масштаба еще более увеличивает количество синонимов и приводит к появлению понятия “солнечная система” - и так безнадежно далее. В принципе нет никаких двух разных слов, которые - под определенным углом зрения - не могли бы оказаться синонимами. И все-таки дело не в этом. А в том, что “человечек”, “Луна” и “Николай” самые что ни на есть синонимичные синонимы - и для того, чтобы прочувствовать это, отнюдь не требуется космического масштаба. Достаточно просто знать, что относятся они к одному и тому же объекту - или, если угодно, субъекту. А именно тому, который получается в результате сложения “точки, точки, запятой” и нескольких прочих частностей. Математика есть самая забавная из наук, считал Чарлз Латуидж Доджсон (синоним - Льюис Кэрролл). А уж он-то имел право судить о математике так же смело, как о литературе (в этом смысле математика и литература были для него синонимами. Впрочем, они и так синонимы). Потому что наука, в которой “два” всегда “больше”, чем “один” - даже если перед нами два карлика и один великан, - действительно забавна! Геометрия, кстати, ничуть не менее забавна - взять хоть и понятие “точки”. Как наука пространственная, геометрия могла бы, например, озаботиться тем, во что превратится точка, когда приблизится к нам (а превратиться она может практически во что угодно, ибо любой предмет издали воспринимается как точка!). Но геометрия этим отнюдь не озабочена: точка - и все тут! Что касается орфографии, то и эта наука, синонимичная двум первым, тоже есть наука совершенно безразличная: ей неважно, кто (или что) за кем (или за чем) следует. Ставь запятую - и порядок! Взять хоть такое предложение: Блондинки (запятая), шатенки (запятая) брюнетки всегда привлекают мое внимание, с одной стороны, и такое, как: Слоны (та же самая запятая) помидоры (та же самая запятая) казахи всегда привлекают мое внимание, - с другой стороны! Поэтому оперирование математическими и геометрическими категориями, а также категориями орфографии часто приводит к смешным результатам - например, из, условно говоря, точки, точки, запятой, минуса, палки, еще одной палки и двух синонимов к ним - рожицы смешной, а также огуречика (при некотором, всегда одном и том же, стечении обстоятельств!) получается субъект. В разных странах разный, но, по существу, один и тот же: в России он называется “человечек”, в Германии - “Луна”, в Дании - странным образом Николай. Таким образом, данные три слова, связанные с одним и тем же субъектом, оказываются - в соответствии с непреложной силой факта - синонимами в самом точном смысле этого термина. Кстати, те (из еще оставшихся, наверное!) читателей, кто продолжает упорствовать и не считать приведенные в заголовке - да уже и не только в заголовке! - слова синонимами, тоже совершенно правы, поскольку всякому, находящемуся в своем уме (а например, не в уме автора данной статьи), распрекрасно понятно, что “человечек”, “Луна” и “Николай” - отнюдь не одно и то же. Причем все портит, на первый взгляд, Луна - “человечка” с “Николаем”, допустим, как-то можно еще примирить!.. (На самом деле их примирить нельзя, но это выяснится позднее - впрочем, и сейчас уже можно резонно заметить, что далеко не каждый “человечек” есть “Николай!”). Текст-архетип, тщетно пытающийся воспроизвестись сразу в нескольких культурах, неизбежно становится несколькими текстами, утрачивая черты архетипа. Dura lex, sed lex. Состав этих текстов и будет интересовать праздного автора. Текст-архетип восстанавливается без труда. Обязательными, то есть повторяющимися из культуры в культуру, компонентами - при соблюдении принципа “бритвы Оккама” (”Сущее не умножается без необходимости”) - со всей отчетливостью выступают “точка”, “точка”, “запятая” и “минус”. Это так называемые глубинные, или сущностные, понятия, без которых ни один текст анализируемой группы существовать не может. Комбинация данных компонентов приводит к образованию некоторой структуры - сразу или постепенно. Быстрее всего этот процесс происходит по-немецки: устремленные к универсуму немцы оставляют нас практически сразу: “Punkt, Punkt, Koma, Strich, / Fertig ist das Mondgesicht!” (”Точка, точка, запятая, штрих, /Вот и готово лицо Луны!”). Похвальная лаконичность. Немецкий взгляд на вещи: острый и точный. Путь, который предлагается нам пройти, есть прямой короткий путь без отклонений, причем устремлен он непосредственно в небо. Больше мы ничего не услышим - разве только “оттуда” (”Фауст”, часть вторая!). Здесь же, на земле, у нас отныне нет интересов: раз взглянули и - schцnen Dank. Нас увлек универсум. Умиляет слово “fertig” (”готово”), звучащее по-немецки браво: слово это окончательно, как приговор суда, не подлежащий обжалованию. Граница нашей активности обозначена настолько решительно, что только идиот захочет действовать дальше: ибо дальше ничего нет! Мы брошены одни под открытым небом - с пустыми руками и ногами. Почти столь же конкретно - во всяком случае, на первом этапе - мыслят датчане: “Punktum, punktum, komma, streg,/ Sеdan tegnes Nikolaj!” (”Точка, точка, запятая, штрих,/ Так рисуется Николай!”). Правда, продукт датского мышления ощутимо менее “универсален” - практически вообще не универсален: он конкретен, как меню в студенческой столовой. И никаких небес даже не обещается: результат представлен в виде худосочной “единичности”, наделенной именем собственным (причем даже не очень понятно, чьим собственным, но во всяком случае это не собственность датчан!). То есть практически где сели - там и слезли. И, если бы датский текст кончался прямо тут, за датчан было бы очень грустно. Впрочем, за них все равно грустно, но совсем по другой причине, речь о которой впереди. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 21-05-2007 12:43 |
|
Что касается русского текста… “Точка, точка, запятая, /Минус - рожица смешная” (вариант: “рожица кривая”: у нас, у русских, ничего приятного просто так не скажут!) есть текст “крепко сшитый”, но огорчительно “не ладно скроенный”. Такой текст способна спасти - и спасает, правда из последних сил, - только интонация, причем интонация нарочитая, в сущности демонстративная: этакий невероятный нажим на рожицу! Без нажима рожица ускользает в область небытия, не успев даже оформиться, поскольку текстовый фрагмент “минус-рожица-смешная” означает фактически вычет (или вычитание) рожицы из текста. Неподготовленный ребенок, которому монотонно прочтут начало, останется на всю жизнь ошарашенным: предлагаемая к осуществлению математическая операция - нарисовать точку, точку, запятую и отнять от них рожицу смешную - приводит даже не к датскому исходу (”где сели, там и слезли”), а просто к полному разочарованию, поскольку мы со всей очевидностью остались с носом! На следующем этапе анализа немецкий текст (ускользнувший, как мы еще помним, в область любезного немецкому сердцу абсолюта) выбывает из игры - быстро, честно и скучно сделав свое дело. С нами остаются лишь датский и русский текст, которые идут бок о бок, как начавшие забег скаковые лошади. Причем, если датский текст пытается еще как-то “догнать” немецкий и вернуться к утраченной вследствие “Николая” философичности, то русский просто сразу же деградирует в какую-то удручающую “почвенность”. “Streg og streg og kugle-rund” (”Штрих и штрих, и правильный круг”), - упорствует датский текст, в то время как русский орудует уже “палкой, палкой” и “огуречиком”, окончательно сбившись с философской тональности на какую-то чуть ли не подзаборную. Поразительным образом не может русское сознание долго удерживаться на уровне отвлеченного мышления, замещая чистые символические понятия вытащенными из чулана наглядными до неприличия образами! Потому-то, видимо, и не получается у нас “человека” - получается только “человечек”, этак стыдливо выскочивший на минутку… причем выскочивший разочаровывающе недоделанным: не то без “рук”, не то без “ног” - сразу и не поймешь (”Палка, палка” - это либо только руки, либо только ноги. Либо - в самом крайнем случае - одна рука и одна же нога). “Человечек” существует в виде некоего не удавшегося как следует продукта - так сказать, “побочного продукта” эволюции: достраивать “продукт” до “гармонически развитой личности” приходится уже впопыхах - не в специально отведенное для этого время, а как всегда, в последний момент. Во всяком случае, “ноги” или “руки” этому калеке приходится дорисовывать уже “сверх программы” - стремясь суетливо уложиться в тот короткий промежуток времени, за который произносится “Вот и вышел человечек!” С “человечком”, стало быть, русский текст и остается: смущенно предъявив миру эту творческую удачу, состоящую из точек, запятой, минус-рожицы, палок и - что самое отвратительное! - “огуречика”, русский текст смывается в кусты. Дальше поведет нас за собой только датский текст - и поведет основательно, что обещано уже следующей строкой. Она характеризует еще не завершенного “Николая” с точки зрения его здоровья и психического состояния: Николай оказывается “бодрым, непосредственным крепышом” - даже при отсутствии жизненно важных органов. Представляете, каким же он будет при их наличии? Две очередные строки опечаливают, однако не особенно (”Пока у него дыра в кармане, но помни, малыш, что ее нужно зашить!”): понятно, что такое заботливое внимание к “обустраиванию” крепыша-Николая потом им же и окупится сторицей. Первый куплет заканчивается приделыванием недостающих частей тела, конкретно поименованных (потому что предыдущие “Штрих и штрих” означали отнюдь не руки и не ноги, как наиболее легкомысленные подумали, а две (!) вертикальные линии шеи)… - стало быть, что там дальше идет: “Руки, ноги, а на ногах сапоги…” Если кому-то непонятно, для чего сапоги, то следующая строчка как раз это и объясняет: “Так Николайсен сможет ходить” (”Sе kan Nikolajsen gе”!). Вот! Чтобы вы чего-нибудь другого не подумали насчет сапог… “Николай” более не “Николай” уже - он превратился в “Николайсена”, и зачем-то это, видимо, было надо. А все дело в том, что Николайсен - не имя, а фамилия. Как-то начинает быть подозрительно, не оснует ли этот Николайсен тут у нас целую семью… род целый, династию эдаких бодрых крепышей-николайсенов - тем более, что впереди еще пять куплетов, таких же длинных, как первый! Но во втором куплете полноценный уже Николайсен пока один - и, видимо, потому, что, достигнув физического совершенства, тем не менее не успел как следует освоиться в жизни, однако делает успехи. Приобретает шляпу (так что теперь он в сапогах, с зашитым карманом и в шляпе), причем с невинной и даже благородной целью - чтобы особенно вежливо кого-нибудь приветствовать (кого - не сказано), и постепенно начинает становиться зажиточным: вокруг него собираются стада домашнего скота - блеющие овцы, мычащие коровы и теленок, каким-то образом “освежающий морду”(”mens en kalv sin mule kшler”). Лирические пейзажные зарисовки небогатой датской природы продолжают отвлекать наше внимание от Николайсена - в третьем куплете цветут цветы, аист кормит аистенка фрокостом (вторым завтраком, извините), над одним из окрестных домов развевается датский национальный флаг, кошка играет с мышкой… - и, видимо, все это не к добру. Так оно и есть: на пятой строке зажиточный теперь уже Николайсен внезапно становится зрелым и начинает подумывать о девушках - строго говоря, об одной (”en”!) девушке. У нее, по представлениям Николайсена, должны быть свежие алые щеки, и, кроме того, она должна плести из цветов венки. Казалось бы, таких просто не бывает, ан нет! Уже в четвертом куплете целеустремленный Николайсен обнаруживает одну, восклицая: “Так вот же она!” (”Der er hun jo”!). “Она” имеет ямочки на щеках - две (”to”!), как щепетильно указывает текст, чтобы мы, не дай Бог, не подумали, будто щеки девушки изрыты оспой. И занимается девушка именно тем, о чем мечталось Николайсену: она плетет венки из цветов - красных, зеленых (?) и синих - и связывает букеты соломинками. Текст щедро обещает, что венков она сплетет много… сообщается и сколько именно: семь (”syv”) для Николайсена и семь (”syv”) для себя. В пятом куплете Николайсен и Ингер (так, оказалось, зовут забавницу) идут венчаться в церковь под колокольный звон и объясняют пастору свое желание сочетаться узами брака таким замысловатым образом: “Дорогой прест, мы хотели бы пожениться, устроить свадьбу, завести дом, сад со сливами и яблонями, поросенка, овец, кур и киску”. Против такой программы ни один “прест”, само собой, не устоит - и уже к концу куплета получившая благословение парочка отправляется восвояси. Тут наконец начинается шестой куплет, в котором ветер-озорник ласково треплет алые щеки Ингер, белые овцы Николайсена блеют “все, что хотят” (”alt, hvad de formеr”), летают многочисленные бабочки и делается резонный вывод - как же без этого! - что на Земле все прекрасно, пока на ней живут такие милые детки! Тем, слава Богу, и завершается - не сказать, что неожиданно! - бесконечное это повествование, между тем как Николайсен и Ингер отправляются, видимо, плодить обильное потомство. Иначе говоря, повествование в конце концов просто ударяется оземь, но белым лебедем не оборачивается - оборачивается упитанными “кузнецами своего счастья” (пока двумя). Так, стало быть, с тремя нашими текстами обстоят дела… Обстоят то есть самым безотрадным образом, ибо гениальный текст-архетип фактически побежден бездарными вариациями. Текст-архетип, задуманный и, может быть, неоднократно осуществленный в прошлом как высокая и потому чрезвычайно абстрактная (на уровне математики, геометрии и орфографии) конструкция, преобразовался в результате нескольких - отраженных и не отраженных здесь - попыток переосмысления, т.е. “приспособления-к-себе”, в ряд национальных клише, выполняющих в лучшем случае социальную роль прибаутки, в худшем - социальную роль пародии-на-нацию. И как тут не вспомнить Гомера, утверждавшего, что “подвиги героев - лишь песни последующих поколений”. Автор данной публикации сказал бы “песенки” и откровенно предпочел бы текст-архетип практически любому “более полному” варианту. Ибо полнота не есть набитая чем попало пустота. Полнота вообще, наверное, ничем не набиваема: она монолитна. Когда текст-архетип начинает наполняться “подробностями”, подробности не вписываются в него, а приписываются к нему. А поскольку любые приписанные подробности излишни, они и оказываются синонимичными. Тем не менее философы и школьные учителя (ненужное зачеркнуть) считают, что “Набор синонимов создает полный концепт объекта”. Мнение это вполне можно принять, добавив только: “… или разрушает полный концепт объекта”. … видимо, существуют конструкции, не допускающие варьирования. Видимо, такие первичные конструкции лучше всего заучивать наизусть - подобно постулатам этики, которые разрушаются тогда, когда возникают “конкретные случаи” трактовки незыблемых этических догматов. Видимо, синонимия есть лишь следствие наших нечетких представлений о мире. И, видимо, прав не автор данной статьи, утверждающий, что в языке все слова - синонимы, а академик Л.В. Щерба, высказавшийся на сей счет гораздо умнее (что важно) и гораздо короче (что не менее важно): в языке, дескать, вообще нет синонимов - есть просто плохое знание языка. Доброжелатель К счастью, если рассматривать тексты эти как множество, то множество это оказывается не пустым (!), и притом связным множеством. А то, что множество это - в эвклидовом, разумеется, пространстве (где мы со всей очевидностью и находимся) - является еще и компактным, то есть имеет сразу три предельных точки, принадлежащих этому множеству (иначе говоря, три текста, каждый из которых сколь угодно близок к двум другим), вызывает уже просто неприкрытый восторг! Ко всему прочему множество является счетным: его элементы возможно пронумеровать совершенно натуральными числами, что автор статьи смело и делает: один, два, три. Для желающих испытать полный кайф автор может сообщить, что наше множество относится еще и к разряду совершенных множеств, ибо не имеет изолированных точек: каждый текст - по тексту-архетипу - совпадает с двумя другими текстами как предельными точками! Копенгаген, 1999 |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 21-05-2007 23:00 |
| очень интересно.......... До остроты восприятия | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 21-05-2007 23:03 |
|
СНЯТИЕ СО КРЕСТА (Русская икона XV столетия) Композиция планиметрически представляет сочетание круга с двумя прямыми, образующими при пересечении крест. Эти две простые формы с выразительной символикой воплощают идею сюжета. Основная форма композиционного строения - кольцо. Фигура Христа - центральная сюжетно и композиционно, - образуя полукруг, отмечает темп (moderato), ритм и направление кругового движения. Фигура Христа имеет то же значение, что в музыке cantus firmus. Движение развертывается по полукругу. Фигура над Христом Иосифа Аримафейского ритмически почти повторяет ту же дугу, что и фигура Христа, подчеркивая и усиливая тем самым линию основного движения. Женская фигура справа от Христа - Мария Магдалина, - хотя и менее интенсивна (adagio), но повторяет склон первых двух фигур и, тем самым, постепенно разряжает круговое движение, слабеющее по мере приближения к периферии круга. Последняя справа фигура находится уже вне отмеченного круга и своим сдержанным движением (andantino), выраженным только в склоне головы, представляет удачно найденный ритмический мотив перехода от резкого полукругового движения центральной фигуры к статичной и вертикальной форме архитектурной башни второго плана. Две крайние правые фигуры в башне образуют три такта ритмического движения, постепенно слабеющего по мере удаления в глубину. Симметрию этим трем тактам представляет ритм левой части иконы (две крайние фигуры и башня). Движение в правой части круга весьма напряженно, ибо оно повторяет самую экспрессивную и динамичную линию центральной фигуры Христа. Левая часть круга, после пространственной цезуры между вертикальным древком креста и фигурой Богоматери, образует движение в противоположном направлении. Именно эта цезура дает возможность уравновесить правую и левую части круга. Движение в левой части круга отмечено лишь склонением головы Богоматери и протекает весьма в сдержанном темпе (adagio). Почти полная неподвижность фигуры Богоматери объясняется тем, что Мария принимает на себя падающее тело Христа и вследствие этого представляет собою как бы опору силе, идущей сверху справа налево. Два ряда фигур - принимающие тело и отдающие его - образуют два рода кривых, взаимно противоположных по направлению движения и вместе составляющих круг А. Две нижние фигуры в согнутых позах (Никодим и Иоанн Богослов) образуют малый круг а, тесно сплетенный в одно композиционное целое с кругом А. Оба эти круга А и а составляют общий круг В. Органическая связь всех трех кругов настолько прочна, что цепь, составленная из них, распадается как целое, если изъять какой-либо из кругов. Выключая из композиции малый круг а, мы лишаем замкнутости круг большой В, держащийся скрепом малого круга, как его составной части. Нижний а и средний А круги находятся в двух пространственно различных плоскостях. Две согбенные у подножия креста фигуры составляют первый к зрителю план иконы. Три фигуры, стоящие у креста, образуют второй план, несколько отодвинутый в глубину. Связывает эти оба плана фигура Христа, представляющая как бы мост, перекинутый через пространство, разделяющее оба плана. Это обстоятельство с очевидностью указывает, что пространственная глубина здесь налицо. Но решена эта задача не перспективно, а своеобразным композиционным приемом. Две крайние фигуры, стоящие по обеим сторонам круга А, находятся в третьем по счету пространственном плане. Он понадобился живописцу для того, чтобы создать постепенное ритмическое разрешение экспрессивного движения, обозначенного фигурой Христа. Это движение постепенно убывает, становясь едва уловимым в двух крайних фигурах, чтобы окончательно застыть в формах архитектурных башен. Именно благодаря этим двум фигурам третьего плана переход от полукругового движения второго плана к неподвижной архитектуре четвертого плана постепенен и лишен скачка. В западноевропейской живописи в XV столетии композиция чаще всего развертывается фронтально, при наличии глубинно-построенного перспективного пространства. Композиция “Снятие со креста” оформлена кулисно путем ряда планов, расположенных в глубину, и в этом отношении может быть сравниваема с самыми передовыми для XV века достижениями в изобразительном искусстве, разрушая в то же время представление об иконописи, как исключительно плоскостной форме. Ритмическая экспрессия двух кругов А и а разработана по принципу контрапункта. Если в круге А быстрый темп движения и сложный ритм дан в правой части, то в малом круге а в экспрессивном темпе построена левая часть. Левая фигура малого круга более напряжена по своей кривой, образующей полукруг, чем правая фигура того же круга, образующая угол из двух прямых вертикаль спины и горизонталь ноги). Движение в круге А идет справа налево, в круге а - в обратном порядке. Пропорциональное соотношение всех трех кругов подчинено принципу “золотого деления”. Общий круг В так относится к большему кругу А, как большой круг А относится к малому а. Соотношения частей композиции составляют пропорцию В : А = А : а. Композиционный строй данного произведения можно обозначить как рондо. Отличительной чертой рондо является возвращение темы и кольцеобразная связь между отдельными частями целого, что и имеется в соотношении между тремя кругами. Черты имитационного стиля присущи также рондо. В повторах полукругов, образуемых телом Христа и фигурами Иосифа и Магдалины, можно видеть типичный для стихотворного рондо рефрен. Колорит построен на насыщенных цветах. Гамма его звучна и интенсивна. Она дает аккорды киновари с зеленью, охры с белилами, синего с темно-коричневым, поражая смелостью и звучностью этих цветовых сопоставлений. Цветовая мелодия мажорна, что характерно для новгородской школы, образчиком которой служит эта икона. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 23-05-2007 08:05 |
|
В. В. Шаповал ЦЫГАНСКИЙ БАРОН КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (Русская речь. - 1999. - № 4. - С.103-108) -------------------------------------------------------------------------------- Выражения цыганский барон нет ни в толковых, ни во фразеологических словарях. По всей вероятности, оно не фиксируется потому, что представляется такой же тривиальной метафорой, как черное золото 'нефть', царица полей 'кукуруза', или даже описательным обозначением, речевой находкой типа американский рубль 'доллар', китайские буквы 'иероглифы'. Прилагательное цыганский употребляется еще в целом ряде метафорических номинаций, например, разговорное: цыганский пот 'дрожь, озноб'; цыганская иголка 'большая игла'; а также в криминальном арго: цыганское солнце 'ночное светило: луна, месяц'; цыганский профсоюз 'сборище, компания бродяг'; цыганская игла 'длинное шило' (Д.Балдаев, В.Быков). Прилагательное цыганский здесь выступает в качестве сигнала фразеологичности словосочетания, оно указывает на какой-то необычный сдвиг исходного значения существительного: цыганский барон 'что-то вроде барона', цыганская игла 'особый тип иглы' и т.п. Нельзя не отметить, что и существительное барон входит в ряд однотипных номинаций, возникших на основе метафорического переноса: нефтяные бароны, "Пивные бароны" (французский телесериал, сент. 1997, 5-й канал), ср.: Кречетов Степан. Атомный БАРОН. Как Велихов летает на ядре. За прибылью// Новая газета. 2000. 25-28 мая. № 20(Д). С. 4; Васильева Ек. Чего хотят алюминиевые бароны // Новая газета. 2001. 17-19 сент. № 67(710). С. 17, - о производителях алюминия и их отношении с другими естественными монополистами; "...борьба с региональными баронами" (губернаторами) [Костюков Анатолий. Жесткая вертикаль становится мягкой // Общая газета. 2001. 1-7 февр. № 5 (391). С. 1]. Ряд, похоже, открыт. Близки к ним по типу переосмысления исходного значения слова барон также и сложные слова наркобарон и фон-барон. Наркобароны как слитное наименование появились где-то в начале 1990-х, а нефтяные бароны превратились в нефтебаронов позднее, например: "Но в октябре нефтебаронов ждал новый удар" [Дикун Елена. Нефтяники вскрыли банковские сейфы // Общая газета. 2000. № 47 (381). С. 1]. На этом фоне устойчивость и фразеологичность выражения цыганский барон воспринимается как результат такого же метафорического переноса. О принципиальной близости рассмотренных словосочетаний свидетельствует и возможность их контаминации в речи, как, например, в названии газетной статьи "Рабыня цыганских наркобаронов", где речь идет об использовании труда наркозависимых людей в наркобизнесе (С. Шерстобоева, Комс. правда, 1997, 10 окт., с. 6). Ясно, что цыганский барон - это не то же, что барон в свободных сочетаниях немецкий барон, остзейский барон или барон Мюнхгаузен... и даже "черный барон" - барон Врангель (Белая армия, черный барон / Снова готовят нам царский трон, "Красная армия всех сильней", сл. Павла Григорьева [П.Горина]). Во всяком случае цыганский барон - это не "дворянский титул ниже графского" (Сл. совр. русск. лит. яз./ 2-е изд. Т. 1 [М., 1991], с. 346), поскольку стоит вне иерархического ряда граф, князь и т.д. Это, следовательно, и не наименование "лица, имеющего вышеупомянутый титул" (там же). Говоря о цыганских баронах, русские цыгане подразумевают просто богатых, состоятельных цыган, указывали русские цыганологи Друц Е. и Гесслер А. (Сказки и песни, рожденные в дороге. М., 1985, с. 468). Другой признак особого значения - суженные словообразовательные возможности: супругу цыганского барона никто не называет *цыганская баронесса, *цыганские баронства отсутствуют на географической карте, да и о процедуре формального присвоения *цыганского баронства говорить не приходится. Все это указывает на наличие особого производного лексического значения, представленного в выражения цыганский барон. Обратившись к этимологии, мы обнаруживаем, что в данном случае можно говорить и об особом происхождении слова барон в выражении цыганский барон. Словосочетание цыганский барон широко распространилось прежде всего как название оперетты Иоганна Штрауса-сына (1825-99) "Der Zigeunerbaron", созданной в 1885 г. "Цыганский барон" - одна из самых популярных классических оперетт в репертуаре дореволюционного русского театра, часто ставилась и в советскую эпоху. Название "Цыганский барон" стало известным и людям, далеким от театра. Попробуем уточнить время появления названия оперетты "Цыганский барон". Русские переводы появились довольно быстро. Перевод М.Г.Ярона (отца известного актера Г.М.Ярона) под названием "Цыган-барон (Der Zigeunerbaron). Оперетка в 3 действиях. Из повести М.Жокай и Шнитцер" вышел в московском издательстве "А.Гутхейль" (цензурное разрешение 24 июня 1892), т.е. через семь лет после создания оперетты. Некоторые другие дореволюционные издания не имеют даты, но они стереотипно (литографически) воспроизводят текст упомянутого выше московского издания, то есть появились позже. Так, издательство "А.Гутхейль" выпустило версию с немецким титульным листом (уже без указания переводчика, то есть, очевидно, после приобретения у Г.Ярона всех прав на издание, следовательно, после 1892 г.). Еще позже издательские права перешли к петербургскому издательству "А.Бюттнер". Опять был литографирован тот же русский текст Ярона и немецкий титульный лист (лишь надзаголовок "Edition A.Gutheil" обрезан). Кроме того, поскольку это издание осуществлялось в Лейпциге, отсутствует упоминание русской цензуры, поэтому нельзя даже ориентировочно определить год издания. Любопытно, что вариант названия "Цыганъ-баронъ", появившийся в русском переводе М.Г.Ярона 1892 г., в указанных переизданиях отсутствует. Что же касается варианта названия "Цыганский барон", можно предполагать, что ему мы обязаны устной традиции, во всяком случае в РГБ дореволюционных изданий с русским титулом "Цыганский барон" нет. Лишь рукописный подзаголовок "Цыганскiй баронъ" обнаруживается на одном экземпляре бюттнеровского недатированного издания для фортепьяно (ноты без текста, с немецким титульным листом), примерно 1890-х гг. (стр. 3, под словом OUVERTURE, справа владельческая надпись другим почерком: ПобЬдимовъ, экз. РГБ). Таким образом, уже в начале 1890-х гг. немецкое der Zigeunerbaron было калькировано "в лоб" (цыган-барон) и несколько позже (иначе переводчик использовал бы вариант названия, подкрепленный устной традицией) переведено более естественно существительным с согласованным определением (цыганский барон). О свежести наименования свидетельствует шутка 1896 г.: "Цыганский барон никак не может попасть в высшее общество, где не хотят признать его странный титул" (Стрекоза. - СПб., 1896. - № 22. - С. 7). В соседних номерах "Стрекозы" смеются над кинематографом, так что журнал вряд ли повторял шутки с бородой. Второй вариант (цыганский барон) и метрически более точно соответствовал образцу, что немаловажно в таких переводах, где каждый слог необходимо положить на партитуру "обратно". Обращаясь к корням немецкого цыган-барона, естественно спросить: "Почему именно этот титул был выбран для обозначения цыганского вожака в немецкой оперетте?" Ответ находим в цыганском языке, где прилагательное баро/baro значит 'большой, великий', а форма мужского рода используется также как одушевленное существительное 'глава семьи или табора' (Цыганско-русский сл., М., 1938, с.12; Wolf S.A. Grosses Woerterbuch der Zig., No. 109). Широко известно и словосочетание ром баро 'взрослый мужчина; видный, уважаемый цыган; pater familias [отец семейства]', например: О Дёрдица ром баро - Дёрдица, видный цыган (Образцы фольк. цыг.-кэлдэрарей, с. 132); название народной песни "Ром баро" в обработке Н.Жемчужного так и переведено "Большой цыган", что, конечно, не отражает специфическое значение выражения; Н.Логинова, назвавшая свою статью памяти одного из основателей театра "Ромэн" И.И.Ром-Лебедева "Ром Баро", комментирует этот экзотизм так: "Ром Баро - это по-цыгански вожак, крупная личность, значительный, удачливый, сильный" (Литературная газета. 23.01.1991). Есть подобное словосочетание и у зарубежных цыган, поэтому Zigeunerbaron можно считать своеобразной полукалькой цыганского обозначения ром-баро (букв. "цыган + большой" / "цыган + вожак"), в котором первая часть ром переведена Zigeuner, а вторая замещена по созвучию слов и сходству значений титулом Baron. Учитывая, что либретто "Zigeunerbaron" было написано на основе повести венгерского писателя Мора Йокаи, необходимо принять во внимание посредство венгерского языка. По-венгерски повесть называется "A ciganybaro", где baro - барон, того же происхождения, что и в других европейских языках. Как известно, в Европе титул барон распространился через средневековую латынь из древневерхненемецкого, где baro значило 'муж, вассал'; 'воинственный человек' (Фасмер М. Этим. сл., т. I, с. 128). В русский язык слово барон пришло из французского или немецкого (Сл. совр. русск. лит. языка, т. 1 [М.; Л., 1948], стб. 284; 2-е изд.: т. 1 [М., 1991], с. 346). Официально титул барон в России ввел в начале XVIII в. Петр I. Первым русским бароном стал в 1710 г. Петр Шафиров (в 1723 г. по обвинению в финансовых злоупотреблениях лишенный чинов, титула и имения). Европейский титул барон был введен, как предполагают, специально для поднятия престижа "новой знати", однако баронство, исключая потомственных остзейских баронов, "не вызывало особого уважения" (Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994, c. 38). Таким образом, в ряде европейских языков созвучие между оригинальным названием цыганского вожака и титулом барон создало ситуацию, в которой отождествление этих слов могло происходить неоднократно и независимо. Благодаря этому и венгерское baro и немецкое Baron (барон) практически безальтернативно были выбраны в качестве перевода цыганского названия вожака баро. "Русские плохо расслышали и думают, что это барон," - пишет Н.Логинова (Ром Баро // Литературная газета. 23.01.1991). "На происхождение арготизма барон (цыганский) - 'вожак табора; неофициальный лидер у цыган' повлияло и русское слово барон и цыганское baro - 'вожак цыганского табора'..." - констатирует М.А.Грачев (Русское арго. Нижний Новгород, 1997. С. 83). Петербургские цыгане более категоричны: "А понятие "цыганский барон" - это вымысел, миф" (Ольга Медведева, "Вечерний Петербург", 2001, окт.) [http: //fontanka.webmaster.spb.ru/cgi-bin/calendar.pl?year =2001&mon=7&mday =19&num =007&map=press]. Правда, в отношении этой пары слов существует ряд иных мнений, иногда диаметрально противоположных. Французский арготолог Алис Беккер-Хо недавно высказала предположение, что общеевропейский baron находится в некоторой исторической зависимости от цыганского баро: фр арготизм baron "соучастник, играющий роль богача в каком-либо мошенничестве; альфонс" и др. она сближает с цыг. baro 'вожак' (Becker-Ho Alice. Les princes du jargon. Paris, 1993, p. 59). В целом она настаивает на максимальной роли цыганского языка в формировании криминальных арго Европы, однако схематизм изложения не позволяет решить, идет ли речь в данном случае только о цыганском влиянии на формирование приведенных выше арготических значений, или же вообще о заимствовании слова барон из цыганского. Заметим, что эти значения вполне согласуется с переносным "ироническим" употреблением фр. baron в значении "personnage important par ses richesses et par la position qu'il occupe" - "важная особа, заметная благодаря своим богатствам и занимаемому положению" (Grand dictionnaire universel du XIX-e siecle, t. 2, p. 247-8). Кстати, и в романе Эжена Сю "Парижские тайны" вызванный на дуэль барон хочет разорить маркиза, ибо выбирает в качестве оружия деньги. В английском парвеню тоже именуют бароном: "Robber barons soon to be christened "oligarchs"" [Roy Sergei. Funny Kind of Elite // The Moscow Times. 2000. August 19]. Подобным же образом и русское барон становится переносным наименованием богатея, магната (ср. выше: нефтяные бароны, наркобароны и проч.), чему существует историческое объяснение. "Русский барон - как правило, финансист, - отмечал Ю.М.Лотман, - а финансовая служба не считалась истинно дворянской" (Беседы о русской культуре. СПб., 1994, c. 38). На наш взгляд, предполагать участие цыганского языка в формировании такого рода переносных употреблений излишне, а доказать наличие такого влияния весьма непросто. С другой стороны, и цыганское баро 'вожак, старейшина' не всеми признается исконным. Например, оно выделяется в качестве омонима прилагательного баро 'большой, значительный...' и считается заимствованием из венгерского (baro 'барон') в капитальном словаре кэлдэрарского диалекта (Цыганско-русский и русско-цыганский сл./ Под ред. Л.Н.Черенкова, М., 1990, с. 33). И все же такому предположению противоречит ряд обстоятельств. Цыганское слово баро 'вожак, старейшина' известно вне ареала цыганско-венгерских контактов и является субстантивированным прилагательным: цыганское югославское baro Koenig [король], форма женского рода - bari Koenigin [королева], форма сравнительной степени - цыг. немецкое baridir Haeuptling [начальство] и др. (Wolf S.A. Grosses Woerterbuch der Zig., No. 109), ср. и синонимичные выражения: кэлдэрарское баро шэро - глава табора, букв. "большая голова", цыг. нем. barэdэr tschatschэpnaskэro Zigeunerhauptmann [цыганский вожак], букв. "старший по вопросам правды". Как можно видеть, перенос "большой -> начальник" охватывает всю парадигму прилагательного баро и словосочетания с ним, а с венгерским baro 'барон' созвучна только форма мужского рода единственного числа. Кроме того, именные заимствования в цыганском сохраняют конечный гласный основы: в случае заимствования было бы *барОс-кэ (дат. ед.), но баро употребляется в формах косвенных падежей исконного типа: барЭс-кэ и т.д. Следовательно, есть все основания предположить, что baro в венг. ciganybaro, Baron в нем. Zigeunerbaron и барон в русск. цыганский барон обусловлены влиянием цыганского (а не наоборот) и имеют иное происхождение, нежели европейский дворянский титул, с которым наименование цыганского вожака баро(н) было сближено - вплоть до полного отождествления. Различное происхождение одинаково звучащих слов, как известно, является одним из признаков омонимии. Таким образом, в русском словаре присутствует пара омонимов, имеющих различное происхождение и проникших в русский язык в разное время: барон 1 (дворянский титул) - из французского или немецкого в нач. XVIII в.; барон 2 (цыганский вожак) - из цыганского при вероятном посредстве немецкого, венгерского языков (вскоре после 1885 г.). Цыганский барон в литературном языке стоит особняком, но в современном криминальном арго обнаруживается ряд заимствований с тем же общецыганским, индийским по происхождению корнем bar- (Rishi W.R. Multilingual Romani Dict. Chandigarh, 1974, p. 6). Так, наряду с барон 'глава большой цыганской семьи', фиксируется и прямое заимствование из цыганского с пометой "международное": баро 'большой; старший' (Сл. тюремно-лагерно-блатного жаргона. Одинцово, 1992, с. 24; Мильяненков Л. А. По ту сторону закона, СПб., 1992, с. 82, если последнее не списано из немецкого жаргонного словаря). Ранее, перед 1927 г., был записан и не получивший широкого распространения арготизм райбаро 'агент угрозыска', от цыг. рай баро букв. "барин большой" (Потапов С.М. Словарь жаргона преступников, М., 1927, с. 134; Баранников А.П. Цыганские элементы... // Яз. и лит., VII. М., 1931, с. 154, 157, опять же, если это вкрапление не простая запись цыганского выражения). Примечательно, что номинация райбаро только порядком составных частей отличается от толстовского экзотизма барорай 'барин', который в "Живом трупе" Л.Н.Толстого вкраплен в реплику Феди Протасова в разговоре с цыганом (д. I, к. 2, явл. III): Ц ы г а н (к Феде). Вас барин спрашивает. Ф е д я. Какой барин? Ц ы г а н. Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба. Ф е д я. Барорай? Ну что ж, зови. Собственно говоря, что баро рай, что рай баро. Это любой "начальник". Например, в фольклорной песне "Адо форо" ("Тот город") из спектакля "Мы - цыгане" театра "Ромэн" так называют полицейского: "Сыр баро рай кэ мэ ли подгыйа, И о лыла йов мандыр отлыйа..." - (Как большой начальник ко мне подошел, И документы он у меня отобрал...). Употребление цыганского райбаро у Толстого неуместно и забавно, хотя и простительно для дорогого гостя. Чтобы это понять, надо учесть, что в социальных координатах цыгана важнее всего то, что Каренин и Протасов равны по статусу (здесь подходит пшал брат, пшалоро братец, но никак не райбаро - хоть на Каренине и соболья шуба: для Феди Протасова, да и для цыгана он не начальник, ибо не является источником потенциальной угрозы). Таким образом, за пределами литературного лексикона у барона 2 (цыганского барона) обнаруживаются вполне узнаваемые цыганские родственники: арготизмы баро старший, райбаро агент угрозыска, а также экзотизмы барорай барин, Ром Баро авторитетный цыган. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 24-05-2007 19:19 |
| Однако,мы и цитируем | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 24-05-2007 19:43 |
| Как благовоспитанная домашняя девочка, люблю арго))))) | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 25-05-2007 13:37 |
В средине мая |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 27-05-2007 09:32 |
| В третьей декаде))))))))))))) | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 27-05-2007 11:34 |
| Во время преферанса по пятницам | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 27-05-2007 12:27 |
| Техасский холдем. Новый мой порок). Напротив, без арго, тренировка бесстрастности и блефа. Ассоциация, практически тайный орден или шалман. Кайф. | |
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 27-05-2007 22:41 |
|
ПОЭЗИЯ ГОРАЦИЯ (Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. - М., 1970. - С. 5-38) Имя Горация - одно из самых популярных среди имен писателей древности. Даже те, кто никогда не читал ни одной его строчки, обычно знакомы с этим именем. Хотя бы по русской классической поэзии, где Гораций был частым гостем. Недаром Пушкин в одном из своих стихотворений перечисляет его среди своих любимых поэтов: "Питомцы юных Граций, с Державиным потом чувствительный Гораций является вдвоем..." - а в одном из последних стихотворений ставит его слова - начальные слова оды III, 30 - эпиграфом к собственным строкам на знаменитую горациевскую тему: "Exegi monumentum. Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." Но если читатель, плененный тем образом "питомца юных Граций", какой рисуется в русской поэзии, возбмет в руки стихи самого Горация в русских переводах, его ждет неожиданность, а может быть, и разочарование. Неровные строчки, без рифм, с трудно уловимым переменчивым ритмом. Длинные фразы, перекидывающиеся из строчки в строчку, начинающиеся второстепенными словами и лишь медленно и с трудом добирающиеся до подлежащего и сказуемого. Странная расстановка слов, естественный порядок которых, словно нарочно, сбит и перемешан. Великое множество имен и названий, звучных, но малопонятных и, главное, совсем, по-видимому, не идущих к теме. Странный ход мысли, при котором сплошь и рядом к концу стихотворения поэт словно забывает то, что было вначале, и говорит совсем о другом. А когда сквозь все эти препятствия читателю удается уловить главную идею того или другого стихотворения, то идея эта оказывается разочаровывающе банальной: "Наслаждайся жизнью и не гадай о будущем", "Душевный покой дороже богатства" и т.п. Вот в каком виде раскрывается поэзия Горация перед неопытным читателем. Если после этого удивленный читатель, стараясь понять, почему же Гораций пользуется славой великого поэта, попытается заглянуть в толстые книги по истории древней римской литературы, то и здесь он вряд ли найдет ответ на свои сомнения. Здесь он прочитает, что Гораций родился в 65 году до н.э. и умер в 8 году до н.э.; что это время его жизни совпадает с важнейшим переломом в истории Рима - падением республики и установлением империи; что в молодости Гораций был республиканцем и сражался в войсках Брута, последнего поборника республики, но после поражения Брута перешел на сторону Октавиана Августа, первого римского императора, стал близким другом пресловутого Мецената - руководителя "идеологической политики" Августа, получил в подарок от Мецената маленькое имение среди Апеннин и с тех пор до конца дней прославлял мир и счастье римского государства под благодетельной властью Августа: в таких-то одах прославлял так-то, а в таких-то одах так-то. Все это - сведения очень важные, но ничуть не объясняющие, почему Гораций был великим поэтом. Скорее, наоборот, они складываются в малопривлекательный образ поэта-ренегата и царского льстеца. И все-таки Гораций был гениальным поэтом, и лучшие писатели Европы не ошибались, прославляя его в течение двух тысяч лет как величайшего лирика Европы. Однако "гениальный" - не значит: простой и легкий для всех. Гениальность Горация - в безошибочном, совершенном мастерстве, с которым он владеет сложнейшей, изощреннейшей поэтической техникой античного искусства - такой сложной, такой изощренной, от которой современный читатель давно отвык. Поэтому, чтобы по-должному понять и оценить Горация, читатель должен прежде всего освоиться с приемами его поэтической техники, с тем, что античность называла "наука поэзии". Только тогда перестанут нас смущать трудные ритмы, необычные расстановки слов, звучные имена, прихотливые изгибы мысли. Они станут не препятствиями на пути к смыслу поэзии Горация, а подспорьями на этом пути. Вот почему это краткое введение в поэзию Горация мы начали не с эпохи, не с тем и идей, а с противоположного конца - с метрики, стиля, образного строя, композиции стихотворений поэта, чтобы от них потом взойти и к темам, и к идеям, и к эпохе. 2 Стих Горация действительно звучит непривычно. Не потому, что в нем нет рифмы (античность вообще не знала рифмы; она появилась в европейской поэзии лишь в средние века), - рифмы нет и в "Гамлете", и в "Борисе Годунове", и наш слух с этим легко мирится. Стих Горация труден потому, что строфы в нем составляются из стихов разного ритма (вернее сказать, даже разного метра): повторяющейся метрической единицей в них является не строка, а строфа. Такие разнометрические строфы могут быть очень разноообразны, и Гораций пользуется их разнообразием очень широко: в его одах и эподах употребляется двадцать различных видов строф. Восхищенные современники называли поэта: "обильный размерами Гораций". Полный перечень всех двадцати строф, какими пользовался Гораций, со схемами и образцами, обычно прилагается в конце всякого издания стихов Горация. Читатель найдет такой перечень и в нашем издании. Но все эти схемы и примеры будут для него бесполезны, если он не уловит в них за сеткой долгих и кратких, ударных и безударных слогов того живого движения голоса, той гармонической уравновешенности восходящего и нисходящего ритма, которая определяет мелодический облик каждого размера. Конечно, при передаче на русском языке, не знающем долгих и кратких слогов, горациевский ритм становится гораздо беднее и проще, чем в латинском подлиннике. Но и в русском переложении главные признаки ритма отдельных строф можно почувствовать непосредственно, на слух. Вот "первая асклепиадова строфа" - размер, выбранный Горацием для первого и последнего стихотворений своего сборника од (I, 1 и III, 30): Славный внук, Меценат, праотцев царственных, О отрада моя, честь и прибежище! Есть такие, кому высшее счастие - Пыль арены взметать в беге увертливом... В первом полустишии каждого стиха здесь - восходящий ритм, движение голоса от безударных слогов к ударным: Славный внук Меценат... О отрада моя... Затем - цезура, мгновенная остановка голоса на стыке двух полустиший; а затем - второе полустишие, и в нем - нисходящий ритм, движение голоса от ударных слогов к безударным: ...праотцев царственных ...честь и прибежище! Каждый стих строго симметричен, ударные и безударные слоги располагаются с зеркальным тождеством по обе стороны цезуры, восходящий ритм уравновешивается нисходящим ритмом, за приливом следует отлив. Вот "алкеева строфа" - любимый размер Горация: Кончайте ссору! Тяжкими кубками Пускай дерутся в варварской Фракии! Они даны на радость людям - Вакх ненадивит раздор кровавый! Здесь тоже восходящий ритм уравновешивается нисходящим, но уже более сложным образом. Первые два стиха звучат одинаково. В первом полустишии - восходящий ритм: Кончайте ссору!.. Пускай дерутся...- во втором - нисходящий: ...тяжкими кубками ...в варварской Фракии! Третий стих целиком выдержан в восходящем ритме: Они даны на радость людям... А четвертый - целиком в нисходящем ритме: Вакх ненавидит раздор кровавый! Таким образом, здесь на протяжении строфы прокатываются три ритмические волны: две - слабые (полустишие - прилив, полустишие - отлив) и одна - сильная (стих - прилив, стих - отлив). Строфа звучит менее мерно и величественно, чем "асклепиадова", но более напряженно и гибко. Вот "сапфическая строфа", следующая, после алкеевой, по частоте употребления у Горация: Вдосталь снега слал и зловещим градом Землю бил отец и смутил весь город, Ринув в кремль святой грозовые стрелы Огненной дланью. И здесь восходящий и нисходящий ритмы чередуются, но в обратном порядке: в первом полустищии ритм нисходящий ("Вдосталь снега слал..."), во втором - восходящий ("...и зловещим градом"). Так - в первых трех стихах; а четвертый стих - короткий, заключительный, и ритм в нем - только нисходящий ("Огненной дланью"). Таким образом, здесь строгого равновесия ритма уже нет, нисходящий ритм преобладает над восходящим, и строфа звучит спокойно и важно. А вот противоположный случай: восходящий ритм преобладает над нисходящим. Это "третья асклепиадова строфа": Пой Диане хвалу, нежный хор девичий, Вы же пойте хвалу Кинфию, юноши, И Латоне, любезной Всеблагому Юпитеру!.. Первые два стиха повторяют ритм уже знакомых нам строк "Славный муж, Меценат...": полустишие восходящее, полустишие нисходящее. А затем следуют два коротких стиха, оба - с восходящим ритмом; ими заканчивается строфа, и звучит она взволнованно и живо. Нет надобности разбирать подобным образом все горациевские строфы: каждый читатель, хоть немного обладающий чувством ритма, сам расслышит их гармоническое звучание и сам привыкнет улавливать его в читаемых стихах. И тогда перед ним раскроются многие черточки искусства Горация, незаметные с первого взгляда. Он поймет, почему Гораций разделил свои стихотворения на "оды", написанные четверостишными строфами, и "эподы", написанные двустищными строфами (само слова "ода" означает по-гречески "песня", а "эподы" - "припевки"). Он оценит умение, с каким Гораций чередует стихотворения разных размеров, чтобы не прискучивал ритм одних и тех же строф. Он заметит, что первая книга од открывается своеобразным "парадом размеров", - девять стихотворений девятью разными размерами! - а третья книга, наоборот, монолитным циклом шести "римских од", единых не только по содержанию, но и по ритму - все они написаны алкеевой строфой. Он почувствует, что не случайно Гораций, издавая отдельным сборником три первые книги од, объединил общим размером первую оду первой книги (посвящение Меценату) и последнюю оду последней книги (обращение к Музе - знаменитый "Памятник"), а когда через десять лет ему пришлось добавить к этим трем книгам еще четвертую, то новую оду, написанную этим размером, он поместил в ней в самой середине. А если при этом вспомнить, что до Горация все эти сложные размеры, изобретенные греческими лириками, были в Риме почти неизвестны - дальше грубых проб дело не шло, - то не придется удивляться, что именно здесь видит Гораций свою высшую заслугу перед римской поэзией и именно об этом говорит в своем "Памятнике": Первым я приобщил песню Эолии К италийским стихам... Ритм горациевских строф - это как бы музыкальный фон поэзии Горация. А на этом фоне развертывается чеканный узор горациевских фраз. 3 Язык и стиль - та область поэзии, о которой менее всего возможно судить по переводу. А сказать о них необходимо, и особенно необходимо, когда речь идет о стихах Горация. Есть выражение: "Поэзия - это гимнастика языка". Это значит: как гимнастика служит для гармонического развития всей мускулатуры тела, а не только для тех немногих мускулов, которые нужны нам для нашей повседневной работы, так и поэзия дает народному языку возможность развить и использовать все заложенные в нем выразительные средства, а не ограничиваться простейшими, разговорными, первыми попавшимися. Разные литературные языки, направления, стили - это разные системы гимнастики языка. И система Горация среди них может быть безоговорочно признана совершеннейшей, совершеннейшей по полноте охвата языкового организма. Один старый московский професор-латинист говорил, что он мог бы изучать со студентами всю латинскую грамматику по одному Горацию: нет таких тонкостей в латинском языке, на которые у Горация бы не нашлось великолепного примера. Именно эта особенность языка и стиля Горация доставляет больше всего мучений переводчикам. Ведь не у всех языков одинаковая мускулатура, не ко всем применима полностью горациевская система гимнастики. Как быть, если весь художественный эффект горациевского отрывка заключен в таких грамматических оборотах, которых в русском языке нет? Например, по-латыни можно сказать не только "дети, которые хуже, чем отцы", но и "дети, худшие, чем отцы"; по-русски это звучит очень тяжело. По-латыни можно сказать не только "породивший" или "порождающий", но и в будущем времени: "породящий"; по-русски это вовсе невозможно. У Горация цикл "римских од" кончается знаменитой фразой о вырождении римского народа; вот его дословный перевод: "Поколение отцов, худшее дедовского, породило порочнейших нас, породящих стократ негодное потомство". По-латыни это великолепная по сжатости и силе фраза, по-русски - безграмотное косноязычие. Конечно, переводчики умеют обходить эти трудности; в этой книге, в концовке оды III, 6, читатель увидит, как передал эту фразу русский стихотворец: смысл тот же, нарастание впечатление то же, но величавая плавность оригинала безвозвратно потеряна. Переводчик не виноват: этого требовал русский язык. К счастью, есть, по крайней мере, некоторые средства, которыми русский язык позволяет переводу достичь большей близости к латинскому оригиналу, чем другие языки. И прежде всего это - расстановка слов, та самая, которая так смущала неопытного читателя. В латинском языке расстановка слов в предложении - свободная, в английском или французском - строго определенная, поэтому при переводе на эти языки все горациевские фразы перестраиваются по единому образцу и теряют всякое сходство с подлинником. А в русском языке расстановка слов тоже свободная, и русские поэты умели блестяще этим пользоваться, как у Пушкина в "Цыганах" кончается рассказ старика об Овидии: ...И завещал он, умирая, Чтобы на юг перенесли Его тоскующие кости, И смертью - чуждой сей земли Не успокоенные гости! Это значит: "его кости - гости сей чуждой земли, не успокоенные и смертью". Расстановка слов - необычная и не сразу понятная, но слуха она не раздражает, потому что в русском языке она все же допустима. Конечно, употребляется такой прием редко. Но не случайно, что у Пушкина эта вольность в расположении слов появляется как раз в рассказе о латинском поэте. Потому что в латинской поэзии такое прихотливое переплетение слов - не редкость, а обычное явление, не исключение, а правило. Представьте чебе не две строчки, а целое стихотворение, целое собрание сочинений, написанное такими изощренными фразами. как "И смертью чуждой сей земли не успокоенные гости", - и вы представите себе поэзию Горация. Что же дает поэтическому языку такая затрудненная расстановка слов? На этот вопрос можно ответить одним словом: напряженность. Как воспринимает наш слух пушкинскую фразу? Услышав, что после слова "кости" фраза не кончена, мы напряженно ждем того слова, которое свяжет предыдущие слова с дальнейшими, и не успокаиваемся, пока не услышим слов "не успокоенные". И пока в нас живо это ожидание, это напряжение, мы с особенным, обостренным вниманием вслушиваемся в каждое промежуточное слово: не оно ли наконец замкнет оборванное словосочетание и утолит наше чувство языковой гармонии? А как раз такое обостренное внимание и нужно от нас поэту, который хочет, чтобы каждое его слово не просто воспринималось , а жадно ловилось и глубоко переживалось. И Гораций умеет поддержать в нас это напряжение от начала до конца стихотворения: не успеет замкнуться одно словосочетание, как читателя уже держат в плену другие. А когда замкнутое словосочетание слишком коротко и напряжению, казалось бы, неоткуда возникнуть, Гораций разрубает словосочетание паузой между двумя стихами, и читатель опять в ожидании: стих окончен, а фраза не окончена, что же дальше? Вот почему так важна в стихах Горация вольная расстановка слов; вот почему русские переводчики не могут отказаться от нее с такой же легкостью, как отказываются от причастий "пройдущий", "породящий" (среди них старательнее всех сохранял ее Брюсов); вот почему то и дело русский Гораций дразнит слух своего читателя такими напряженными фразами, как, например, в оде к Вакху (II, 19): Дано мне петь вакханок неистовство, Вино и млеко реки струящие В широких берегах, и меда Капли, сочащиеся из дупел. Дано к созвездьям славу причтенную Жены блаженной петь, и Пенфеевых Чертогов рушимые кровли, И эдонийскую казнь Ликурга... Но если напряженность фразы нужна поэту для того, чтобы добиться обостренного внимания читателя к слову, то обостренное внимание к слову нужно читателю для того, чтобы ярче и ощутимее представить себе образы читаемого произведения. Ибо слово лепит образ, а из образов складывается внутренний мир поэзии. В этот мир образов поэзии Горация мы и должны сейчас вступить. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 27-05-2007 22:43 |
|
4 Первое, что привлекает внимание при взгляде на образы стихов Горация, - это их удивительная вещественность, конкретность, наглядность. Вот перед нами опять самая первая ода Горация - "Славный внук, Меценат...". Поэт быстро перебирает вереницу людских увлечений - спорт, политика, земледелие, торговля, безделье, война, охота, - чтобы назвать наконец свое собственное: поэзию. Как представляет он нам первое из этих увлечений? "Есть такие, кому высшее счастие - пыль арены взметать в беге увертливом раскаленных колес...". Три образа, три кадра: пыль арены (в подлиннике точнее: "олимпийской арены"), увертливый бег, раскаленные колеса. Каждый - предельно содержателен и точен: олимпийская пыль - потому, что не было победы славней для античного человека, чем победа на Олимпийских играх; увертливый бег - потому, что главным моментом скачек было огибание "меты", поворотного столба, вокруг которого надо было пройти вплотную, но не задев; раскаленные колеса - потому, что от стремительной скачки разогревается и дымится ось. Каждый новый кадр - более крупным планом: сперва весь стадион в клубах пыли, потом поворотный столб, у которого выносится вперед победитель, потом - бешено вращающиеся колеса его колесницы. И так вся картина скачек прошла перед нами - только в семи словах и полутора строчках. Из таких мгновенных кадров, зримых и слышимых, слагает Гораций свои стихи. Он хочет показать войну - и вот перед нами рев рогов перед боем, отклик труб, блеск оружия, колеблющийся строй коней, ослепленные лица всадников, и все это - в четырех строчках (II, 1). "Жуткая вещественность", - сказал о горациевской образности Гете. Поэт хочет показать гордую простоту патриархального быта - и пишет, как в доме "блестит на столе солонка отчая одна" (II, 16). Он хочет сказать, что стихи его будут жить, пока стоит Рим, - и пишет: "Пока на Капитолий всходит верховный жрец с безмолвной девой-весталкой" (III, 30) - картина, которую каждый год видели его читатели, теснясь толпой вокруг праздничной молитвенной процессии. Гораций не скажет "вино", - он непременно назовет фалернское, или цекубское, или массикское, или хиосское; не скажет "поля", а добавит: ливийские, калабрские, форентийские, эфуланские или мало ли еще какие. А когда непосредственный предмет оды не дает ему материала для таких образцов, он черпает этот материал в сравнениях и метафорах. Так появляются образы резвящейся телки и наливающихся пурпуром гроздьев в оде о девушке-подростке (II, 5); так в оде о золотой середине сменяются образы моря, дома, леса, башен, гор, снова моря, Аполлоновых лука и стрел и опять моря (II, 10); так в оде, где республика представлена в виде гибнущего корабля, у этого корабля есть и весла, и мачта, и снасти, и днище, и фигуры богов на корме, и каждая вещь по-особенному страдает под напором бури (I, 14). Это - в лирических "Одах"; а в разговорных "Сатирах" и "Посланиях" эта конкретность образного языка достигает еще большей степени. Здесь поэт не скажет "от начала до конца обеда", а скажет "от яиц и до яблок" ("Сатиры", I, 3, 6); не скажет "быть богачом", а скажет "Из первых рядов смотреть на слезливые драмы" ("Послание", I, 1, 67: сословию богачей, "всадников", в Риме отводились первые ряды в театре). Он не скажет "скряга", "расточитель", "распутник", "силач", "ростовщик", "сумасшедший", а непременно назовет имя: "скряга Уммидий", "мот Номентан", "распутник Требоний", "силач Гликон", "ростовщик Фуфидий", "сумасшедший Лабеон" и так далее. В одной лишь сатире I, 2 промелькнут, ни много ни мало, девятнадцать таких имен. Современному читателю эти имена не говорят ничего и только понапрасну пестрят в глазах, но первые читатели Горация легко угадывали за ними живых людей, хорошо известных в Риме, и читали насмешки Горация с удвоенным удовольствием. Однако ткань, сотканная из этих собственных имен и вещественных образов, - не сплошная. Гораций хочет, чтобы каждый образ воспринимался в полную силу, а для этого нужно, чтобы он выступал на контрастном, внеобразном фоне отвлеченных понятий и рассуждений. И действительно, вслед за яркой картиной скачек, которую мы видели в оде I, 1, следуют безликие слова о втором людском увлечении - политике ("Есть другие, кому любо избранником быть квиритов толпы, пылкой и ветреной..."); после строк об отцовской солонке идут отвлеченные размышления о человеческой суетности ("Что ж стремимся мы в быстротечной жизни к многому? Зачем мы меняем страны? Разве от себя убежать возможно, родину бросив?.."). А в сатирах и посланиях все кивки на живых и выдуманных конкретных лиц щедро перемежаются сентенциями самого общего содержания: "Если глупец избегает порока - впадает в противный"; "Тот ведь не беден еще, у кого все есть на потребу"; "Вилой природу гони, а она все равно возвратится" и т.д. - неисчерпаемый кладезь этих крылатых слов на любой случай жизни. Все это - внеобразные фразы, они что-то говорят уму и сердцу, но ничего не говорят ни глазу, ни слуху; они-то и нужны Горацию для оттенения его конкретных образов. Иногда предельная отвлеченность и предельная конкретность сливаются, и тогда возникает, например, аллегорический образ неизбежности, вбивающей железные гвозди в кровлю обреченного дома (III, 24). Но чаще отвлеченность и конкретность, внеобразность и образность чередуются; и тогда перед читателем возникает такая картина: предельно конкретный, ощутимый, вещественный образ на первом плане, а за ним - бесконечная даль философских обобщений, и взгляд все время движется от первого плана к фону и от фона к первому плану. Это требует от читателя большой напряженности (опять!), большой дисциплинированности внимания. Но поэт часто сам приходит на помощь читателю, вдвигая между первым планом и фоном, между единичным и общечеловеческим промежуточные опоры для его взгляда. Эту роль промежуточных опор, уводящих взгляд вдаль, от частности к обобщению, принимают на себя географические и мифологические образы лирики Горация. Географические образы раздвигают поле зрения читателя вширь, мифологические образы ведут взгляд вглубь. Мы уже замечали, что Гораций любит географические эпитеты: вино называет по винограднику, имение - по округу, панцирь у него - испанский, пашни - фригийские, богатства - пергамские; в оде I, 31 он подряд перечисляет, что ему не нужно ни сардинских нив, ни калабрийских лугов, ни индийских драгоценностей, ни кампанских садов, ни каленских виноградников, ни атлантических торговых путей. Так за узким кругом предметов первого плана распахивается перспектива на широкий круг земного мира, далекого и в то же время близко касающегося поэта. И Горацию доставляет удовольствие вновь и вновь облетать мыслью этот мир, прежде чем остановиться взглядом на нужном месте: желая сказать в оде I, 7 о Тибуре, он сперва вспомнит и Родос, и Коринф, и Эфес, и Темпейскую долину, и еще восемь других мест; а желая в послании I, 11 спросить у адресата о греческом острове Лебедосе, он сперва спросит и о Хиосе, и о Лесбосе, и о Самосе. Особенно часто он уносится воображением к самым дальним границам своего круга земель - к странам испанских кантабров, заморских бриттов, скифов на севере, парфян и мидийцев на востоке. Именно этот мир в знаменитой оде о лебеде (II, 20) поэт гордо надеется заполнить своей бессмертной славой. Как географические образы придают горациевскому миру перспективу в пространстве, так мифологические образы придают ему перспективу во времени. В оде II, 6 он называет два места, где он хотел бы найти успокоение, - Тибур, основанный аргосским изгнанником Тибурном, и Тарент, "где было царство Фаланта", другого изгнанника, спартанского; и эти бегло брошенные взгляды в легендарное прошлое лучше всяких слов раскрывают нам изгнанническое самочувствие самого Горация. Любое чувство, любое действие самого поэта или его современников может найти подобный прообраз в неисчерпаемой сокровищнице мифов и легенд. Приятель Горация влюбился в рабыню - и за его спиной тотчас встают величавые тени Ахилла, Аякса, Агамемнона, которые изведали такую же страсть (II, 4). Император Август одержал победу над врагами - и в оде Горация за этой победой тотчас рисуется великая древняя победа римлян над карфагенянами, а за нею - еще более великая и еще более древняя победа олимпийских богов над Гигантами, сынами Земли (II, 12). При этом Гораций избегает называть мифологических героев прямо: Агамемнон у него - "сын Атрея", Амфиарай - "аргосский пророк", Венера - "царица Книда и Пафоса", Аполлон - "бог, покаравший детей Ниобы", и от этого взгляд читателя каждый раз скользит еще дальше в глубь мифологической перспективы. Для нас горациевские ассоциации, и географические и мифологические, кажутся искусственными и надуманными, но для Горация и его современников они были единственным и самым естественным средством ориентироваться в пространстве и во времени. Таков мир образов поэзии Горация, мир широкий и сложный. Каждое стихотворение Горация - это прогулка по этому миру. Маршрут такой прогулки называется композицией стихотворения. 5 Когда мы читаем стихи поэтов нового времени - XVIII, XIX, XX веков, - мы мало задумываемся над их композицией: мы к ней привыкли. И если мы попробуем отдать себе в ней отчет, то в самых грубых чертах выглядеть она будет так: стихотворение начинается на сравнительно спокойной ноте, постепенно напряжение нарастает все больше и больше, и в наиболее напряженном месте обрывается. Самое ответственное место в стихотворении - концовка; и признания поэтов говорят, что нередко последние строки стихотворения слагаются первыми, и все стихотворение строится как подступ, разбег для этих "ударных" строк. В стихах Горация - все по-другому. Концовка в них скромна и неприметна настолько, что порой стихотворение кажется оборванным на совершенно случайном месте. Напряжение от начала к концу не нарастает, а падает. Самое энергичное, самое запоминающееся место в стихотворении - начало. И когда читаешь оды Горация, то трудно отделаться от впечатления, что в уме поэта эти великолепные зачины слагались раньше всех других строк: "Противна чернь мне, таинствам чуждая...", "Ладони к небу, к месяцу юному...", "О дочь, красою мать превзошедшая...", "Создал памятник я, бронзы литой прочней...". Как же строятся такие стихотворения? Вот одно из них - ода к красавице Пирре (I, 5): Кто тот юноша был, Пирра, признайся мне, Что тебя обнимал в гроте приветливом, Весь в цветах, в ароматах, Для кого завязала ты Кудри в узел простой? Ах, сколько раз потом Он измены судьбы будет оплакивать И дивиться жестоким Бурям моря страстей твоих, Он, кто полон тобой, кто так надеется Вечно видеть тебя верной и любящей, И не ведает ветра Перемен. О, несчастные Все, пред кем ты блестишь светом обманчивым! Про меня же гласит надпись обетная, Что мной влажные ризы Богу моря уж отданы. (Перевод А. Семенова-Тян-Шанского) Первая строфа, первая фраза - картина идиллического счастья: объятья, цветы, ароматы. Вторая строфа - контраст: будущее горе, будущие бури. Затем - ловкий изгиб придаточного предложения ("Он, кто полон тобой...") - и опять идиллия любви и верности, но уже только как мечта. А за нею опять контраст: переменчивый ветер, обманчивый свет. И, наконец, концовка, для понимания которой нужно немного знать античные религиозные обычаи: как спасшийся от кораблекрушения пловец благодарно приносит свою одежду на алтарь спасшему его морскому богу, так Гораций, уже простившийся с любовными треволнениями, издали сочувственно смотрит на участь влюбленных. Мысль поэта движется, как качающийся маятник, от картины счастья к картине несчастья и обратно, и качания эти понемного затихают, движение успокаивается: начинается стихотворение ревнивой заинтересованностью, кончается оно умиротворенной отрешенностью. До сих пор нам приходилось говорить главным образом о напряженности в стихах Горация; теперь придется говорить о том, как эта напряженность находит в них свое разрешение, затихает, гармонизируется. Зигзагообразное движение мысли, затухающее колебание маятника между двумя лирическими противоположностями - излюбленный прием, к которому Гораций обращается для этой цели. Вот пример движения мысли между двумя контрастными чувствами - знаменитая ода-дуэт Горации и Лидии (III, 9): "Я любил тебя и был счастлив" - "Я любила тебя и была знаменита". "А теперь я люблю другую и готов умереть за нее" - "А теперь я люблю другого, и хоть дважды умру за него". "А что, если снова повелит любовь возвратиться к тебе?" - " А тогда, хоть ты того и не стоишь, и я не расстанусь с тобой". Вот пример движения мысли между двумя контрастными предметами - ода к полководцу Агриппе (I, 6): "Пусть твои победы, Агриппа, прославит другой поэт - для меня же петь о тебе так же трудно, как о Троянской войне или о судьбах Одиссея. - Я скромен, я велик лишь в малом - мне ли воспевать Ареса, Мериона, Диомеда? - Нет, мои песни - только о пирах и любви". Гораций обладал парадоксальным искусством развивать одну тему, говоря, казалось бы, о другой. Так, в оде к Агриппе он, казалось бы, хочет сказать: "Мое дело - писать не о твоих подвигах, а о пирах и забавах"; но, говоря это, он успевает так упомянуть о войнах Агриппы, так сопоставить их с подвигами мифических времен, что Агриппа, читая эту оду, мог быть вполне удовлетворен. Так, в оде I, 31 он, казалось бы, просит у Аполлона блаженной бедности в тихом уголке Италии, но, говоря о ней, он успевает пленить читателя картиной ненужного его богатства во всем огромном беспокойном мире. Сквозь любую тему у Горация просвечивает противоположная, оттеняя и дополняя ее. Даже такие патетические и торжественные стихотворения, как ода к Азинию Поллиону о гражданской войне (II, 1) и ода к Августу о великой судьбе римского народа (III, 3), он неожиданно обрывает напоминанием о том, что пора его лире вернуться от высоких тем к скромным и шутливым. Даже лирический гимн природе и сельской жизни в эподе 2 неожиданной оборачивается в финале собственной противоположностью: оказывается, что все эти излияния - казалось бы, такие искренние! - принадлежат не самому поэту, другу натуры, а лицемерному ростовщику. Современному читателю такие концовки кажутся досадным диссонансом, а Горацию они были необходимы, чтобы картина мира, отображенная в произведении, была полнее и богаче. Не всегда связь двух контрастных тем ясна с первого взгляда: иногда колебания маятника бывают так широки, что за ними трудно уследить. Так, ода I, 4 рисует картину весны: "Злая сдается зима, сменяяся вешней лаской ветра...", рисует оживающую природу, зовет к весенним праздничным жертвоприношениям; и вдруг эту тему обрывает тема смерти, ожидающей всех и каждого: "Бледная ломится Смерть одною и тою же ногою в лачуги бедных и в царей чертоги..." Где логика, где связь? Чтобы найти ее, нужно заглянуть в другое стихотворение Горация о весне - в оду IV, 7: "С гор сбежали снега, зеленеют луга муравою..." Она тоже начинается картиной оживающей природы, но за этим следует та мысль, которая является связующим звеном между двумя темами и которая была опущена в первой оде: весна природы проходит и приходит вновь, а весна человеческой жизни пройдет и не вернется. Стужу растопит зефир, весну поглотившее лето Тоже погибнет, когда Щедрая осень придет, рассыпая дары, а за нею Снова нахлынет зима. Но в небесах за луною луна обновляется вечно, - Мы же в закатном краю, Там, где родитель Эней, где Тулл велелепный и Марций, - Будем лишь тени и прах. И после этого перехода тема смерти и загробного мира становится естественной и понятной. Так, колеблясь между двумя противоположными темами, лирическое движение в стихах Горация постепенно замирает от начала к концу: максимум динамики в первых строках, максимум статики в последних. И когда это движение прекращается совсем, стихотворение обрывается само собой на какой-нибудь спокойной, неподвижной картине. У Горация есть несколько излюбленных мотивов для таких картин. Чаще всего это чей-нибудь красивый портрет, на котором приятно остановиться взглядом: Неарха (III, 20), Гебра (II, 12), Гига (II, 5), Дамалиды (I, 36) или даже жертвенного теленка (IV, 2). Реже это какой-нибудь миф: о Гипермнестре (III, 11), о Европе (III, 27). А когда стихотворение заканчивается мифологическим мотивом, то чаще всего это мотив Аида, подземного царства: так кончается ода о рухнувшем дереве с ее патетическим зачином (II, 33), не менее бурная ода к Вакху (II, 19), ода об алчности (II, 18), только что рассмотренная ода о весне (IV, 7). В самом деле, какой мотив подходит для замирающего лирического движения лучше, чем мотив всеуспокаивающего царства теней? Так строятся оды; а в сатирах и посланиях Гораций применяет другой прием всестороннего охвата картины мира: не последовательную смену контрастов, а вольную прихотливость живого разговора, который легко перескакивает с темы на тему и в любой момент может коснуться любого предмета. Этим он и держит в напряжении читателя, вынужденного все время быть готовым к любому повороту мысли и к любой смене тем. Так, сатира I, 1 начинается темой "каждый недоволен своей долей", а потом неожиданно переходит к теме алчности; сатира I, 3 начинается рассуждением о непостоянстве характера, и вдруг соскальзывает в разговор о дружбе и снисходительности. А разрешается это напряжение уже не композиционными средствами, а стилистическими: легким шутливым разговорным слогом, как бы снимающим вес и серьезность затрагиваемых этических проблем. Итак, мало сказать, что основа поэзии Горация - это предельно конкретный образ на первом плане, а за ним - дальняя перспектива отвлеченных обобщений. Нужно добавить, что Гораций не ограничивается одним образом и одной перспективой, а старается тут же охватить взглядом и другую сторону, старается вместить в одно стихотворение все бесконечную широту и противоречивость мира. И нужно подчеркнуть, что Гораций не обрывает стихотворение на самом напряженном месте, предоставляя читателю долго ходить под впечатлением этого эффекта и постепенно угашать и разрешать эту напряженность в своем сознании - он старается разрешить эту напряженность в пределах самого стихотворения и затягивает стихотворение до тех пор, пока маятник лирического движения, колебавшийся между этими двумя крайностями, не успокоится на золотой середине. Золотая середина - наконец-то произнесены эти слова, самые необходимые для понимания Горация. Золотая середина - это уже не только художественный прием, это жизненный принцип. Из мира горациевских образов мы вступаем в мир горациевских идей. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 12 13 14 15 16 17 Next>> |
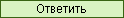
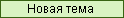
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |