
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 14 15 16 17 Next>> |
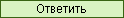
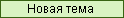
|
| Автор | Сообщение |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 20-06-2007 23:22 |
|
Было бы странно, если бы книжный мальчик конца ХХ столетия раз и навсегда отказался от подобного дискурса. Случись такое, Илья с его интеллектуальной честностью непременно встал бы на путь иноческого служения. Однако, применительно к собственному творчеству пережитое постижение все чаще принимает у него архетипический для мирочувствования русского поэта характер Поручения и непосредственного соотношения, со-вещания с Творцом, как это происходит в стихотворении К СТИХУ, когда речь идет о зарождении слова: Незнакомое мне, и еще неизвестное Богу. Ибо лишь для того, чтобы стать таковым, - рождено. Тупик рационалистического и позитивистского подхода к сакральному для Ильи очевиден, и стародавней интеллигентской дилеммы: кто кого оставил - Бог человека или человек Бога - для него не существует: Только Бог и остался, оставленный мозгом… (НОЙ) В Тюрине вообще нет прекраснодушной эйфории и размягченности русского интеллигента, ради душевного комфорта легко идущего на поводу взаимоисключающих допущений. Трезвость духа этого феноменального юноши поистине иноческая. Заповеди Божии для него постепенно наполняются конкретикой, которая отличает верующего в личного живого Бога от бесплодно философствующего «по поводу»: Но если от Бога бежать, беги От поприщ, одежды и левой своей щеки. (НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ) Бродско-маяковско-пастернаковская интонация покидает стихи этого счастливого периода (еще раз напомним - действие происходит в пространстве одного года жизни мальчика, которому не суждено дожить до полных 20 лет!) Но мало-помалу она сменяется блоковской тревожной музыкой и графической двуцветной гаммой: Мы в снегу. Если Бог попадет в метель - Философия сгинет. (ЕККЛЕЗИАСТ) Мотив одиночества Бога, преданного людьми, звучит все трагичнее, и это тем более поразительно, что поэты в основном заняты собственными экзистенциальными проблемами - отнюдь не только в возрасте Ильи, когда тема одиночества настигает всерьез и ломает большинство неокрепших душ: Чем он дольше один, Тем он больше Господь. (ПРИМИТИВНЫЙ ПЕЙЗАЖ) В стихах, обращенных к возлюбленной, не впервые у Ильи, но впервые с такой дихотомической резкостью, появляется тема смерти. Мир, лежащий во зле, предстает уже в стадии конечного выбора, лишенным ненужных промежутков и отвлекающих от главного деталей: Потому что - поймешь ли? - у смерти Нет вопроса «Куда попаду?». Нет Земли: только Бог или черти, Только Рай или Ад. Мы в Аду. (Не вставай: я пришел со стихами…) Этим утверждением заканчивается для Ильи Тюрина 1996-й год. И непонятно, отчего сильнее щемит душу - от конечности выбора или от этого мучительного вопроса, обращенного, судя по всему, к самому близкому человеку: «поймешь ли?» Не говоря уже о том, что поместить любимую в ад не решился даже «суровый Дант» (Пушкин). Между тем, с теологической, а не поэтической, точки зрения вопрос далеко не столь окончательно разрешен. Священник Владимир Пивоваров в лекции об Искуплении говорит: «Мало кто из вас, наверно, знает, что, с точки зрения Православного богословия, рая и ада не существует. Рай был уничтожен грехопадением Адама. А ад уничтожен сошествием Христа в ад. Святитель Иоанн Златоуст рассуждает: Он сокрушил цепи вечные. Скажите, кто может починить то, что сломал Христос? Поэтому православное богословие говорит так: Души праведников находятся в преддверии рая, ожидая будущего вечного блаженства, а души грешников в предвкушении, предначинании вечных мук. Но в данный момент ни рая, ни ада нет. Христос ломает ад». Разумеется, у поэта и богослова разные подходы к решению «вечных вопросов» и разная система мышления. В ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ Ильи Тюрина читаем: «Мысля, обращаю на себя Его внимание». Но для поэта «мыслить» означает непрерывно и кинетически рефлексировать, оспаривая самого себя и возвращаясь к отринутому. Илья был более чем далек от гуманистических иллюзий, переполнявших Бродского, который вполне серьезно полагал, что человек, читавший Диккенса, не совершит преступления. Тюрин воспринимал поэзию как экзистенциальную трагедию: «…вторжение поэзии в любую жизни и есть трагедия человека…В конце концов, поэт находится там, где человека нет» (ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ). Год следующий - 1997-й - открывается обширным стансовым произведением Хор - скорее всего, не поэмой по замыслу, потому что свои поэмы Илья строил на других основаниях. ХОР посвящен снова памяти Иосифа Бродского и приурочен к годовщине его смерти. В сложнейшей полифонии - и тончайшей строфике - этой безусловно этапной вещи тема Бога и тема смерти вновь неумолимо пересекаются: Бог, Ежели и жесток, - То в том, что в секрете срок Смерти хранит от нас. Иль у Отца и чад Разные взгляды на Время и важность дат? Илья непреложно понимал эту разницу «взглядов». Но спустя год после ухода учителя он чувствует себя старшим по отношению к адресату стансов - и имеет на это полное право: достаточно просмотреть все вышеприведенные цитаты, а еще лучше - перечитать все стихи 96-го. Как старший в разговоре с младшим, а не бессознательно заискивающий перед мэтром и старающийся попасть в тон ученик, он допускает необходимую по сюжету и уловимую только посвященными меру иронии, неоскорбительного пересмешничества основных тем Бродского, в разной - и часто всесокрушительной - степени сопровождающего любое ученичество. Илье Тюрину по-человечески чужд принцип «победителя-ученика», восточная, не знающая милости холодная гордыня преодоления прошлого: увидишь Будду - убей Будду. Но постепенно контрапункт развивается вглубь и обнаруживает самостоятельную, хотя и не самодовлеющую, мелодию - кьеркегоровскую мелодию молчания Бога: Некто спросил Творца: «Боже, зачем печаль Селится к нам в сердца?» Бог не отвечал: Этим и знаменит. Загодя обречены Все, кто Его затмит В области тишины. Впервые мотив появился в раннем наброске: «Божество молчит». Для большинства неофитов на этом шаге все и заканчивается. «Безответность» Бога становится главной претензией не желающих взрослеть «чад». Не надо думать, что Илье взросление в отношениях с Отцом Небесным давалось легче, чем остальным: «И тьма в глазах. И Бог преодолим». Он далеко не безропотно выдерживал мнимую неразделенность своих обращений: Я не знаю, что думаешь ты, Наш портной, наш примерщик и жид. (Прежде, чем его сны заклюют…) Но поэзия часто вызволяет из тупика, в который заводит соблазнившийся о себе ум. Так было и у Тюрина. Органично и не теряя основной мелодии многоголосья - переклички с кумиром своей начальной поры, которого он, несмотря ни на что, не предал и не отторг, Илья пробирался к собственным, личным, пусть далеко не всегда каноничным, дефинициям. Определение причины «неучастия» Бога в делах человеческих, которое на самом деле есть лишь наше «окамененное нечувствие» по отношению к незримому и неосязаемому, он вывел из того же достаточно ограниченного набора органов чувств, данных человеку, не претендуя ни на какое сверхзнание: Бог - это слух. Рукам Вмешиваться нельзя. Иосиф Бродский был из той породы людей, которые словно родятся ироническими стариками. И никогда бы не рискнул сменить маску - не то что сорвать ее. Никогда бы не поступился заветной интровертностью ради того, что так чувствовал Илья Тюрин в своей мальчишеской жалости к одинокости Божией: Среди толпы Бог в самой тусклой маске, Чтоб фору дать движениям чужим… (ОСТАНОВКА) Молчание Пастыря, которое сплошь и рядом оборачивается «роптанием ягнят», переходящим в прямые кощунства, для необыкновенного мальчика, Маленького Принца эпохи незрячих сердец, было только лишним обоснованием Его бытия. Собственное приближающееся безмолвие - лишней возможностью быть до конца честным. Причем с Ним или с ней - любимой - одной мерой: Нас Творец не учил диалогу, Презирая двойное вранье. (Стих клубится над чашками в доме…) Илья замолчит о Боге гораздо раньше, чем примет решение отказаться от стихописания. Стихи полутора последних лет его запредельной жизни скупы на Имя, непроизносимое уже по иной причине, нежели в раннюю пору, - не от недостатка, а от избытка обретенного. Но 97-й год оставил нам еще одно - последнее обращение к Бродскому, трезвое и элегическое воскрешение любимого поэта, поскольку стихотворение 24 мая 1940 воспроизводит дату его рождения, а не смерти: Ибо Он знает: пока не отпрянули Мы к рубежу своему - В мыслях и голосе, поздно ли, рано ли, - Мы обратимся к Нему. К Знанию Воскресшего Бога человеку нечего добавить. Получив же свидетельство об этом Знании, остается только уйти к Нему, а перед дорогой помолчать. По обычаю отцов. И по великодушию к ним: Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша (1 Иоан., 4). |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 20-06-2007 23:25 |
|
ШЕСТИНОГ ИЗ ПОГИБШЕЙ РАКОВИНЫ Илья называл вдохновение «неудавшимся плагиатом» (EINE KLEINE NAHСTMUSIK). Это одновременно и глубже постмодернистской парадигмы, и равно ей. Я, написавшая о плагиате целый роман, может быть, понимаю Илью лучше многих. Переделка «летучих строф» «в свои», присвоение есть и феномен, и ноумен стихотворчества. Мы говорили об этом, анализируя «похожесть» Тюрина и Бродского. Так или иначе процесс творчества снова связан у Ильи с клаустрофобией, водой и смертью. Переработка гипертекста происходит в стихотворении «посредине седых Микен». Это можно прочесть как внедренность поэта в прошлое, во все, что написано до него. Но микенский акрополь был окружён мощными циклопическими стенами и неприступен. А потом из крепости пробили подземную ступенчатую галерею к источнику, текшему в значительном отдалении, внизу. Добровольное заключение Ильи в четырех стенах своей комнаты, его постоянный взгляд вниз из окна и нарочитое отсутствие в EINE KLEINE NAHСTMUSIK идиомы «источник вдохновения» освещают присутствие микенской цивилизации иным светом. Архетип вдохновения в стихотворении снова абсолютно пушкинский - Болдино. Нам еще предстоит много говорить о четырех стенах. Почти целую главу мы посвятим и роли чернил в водной символике. Здесь же остановимся на чернилах, которыми писал Илья, только в их взаимоотношениях с вдохновением: И хотя не скудеют чернила - Стой, мое вдохновение, стой: Ты настолько меня изменило, Что в чертах удалого лица Не сумеешь оставить примету. Как беседка рукой пришлеца, Я тобою испорчен за эту Невеликую ночь… (В темноте штукатурка одна…) Именно здесь вдохновение описывается будущим врачом как измененное состояние сознания, как воздействие наркотика. Конечно, это - дань новой эпохе и новой, неотвратимо наступающей драг-культуре. Но восприятие вдохновения как порчи все же достаточно нетипично для «питомца муз», которые в первой строфе аттестуются «дурами». Стремление к абсолютной, безоговорочной оригинальности сопротивляется постижению утопичности этой категории в эру абсолютной вторичности. «Ночной» прообраз творчества диктует особую систему образов: «некто вверху», наводящий порчу, а не осветляющий, не преображающий, создает мифологичную пару отражений в виде чудовищ: «…как Харибда напротив Сциллы». Сцилла (Скилла), как и соседствующая с ней Харибда, - уродцы водные, морские. Таким образом, творчество у Ильи неразрывно сковано архетипом воды. Кроме того, Скилла связана со знаковым для Ильи числом «шесть» - именно таким количеством собачьих голов награждает ее миф. Именно стольких матросов из команды Одиссея она поглотила. Илья не только читал эхо как «число зверя» - 666. В стансАХ на пострижение присутствует «шестиногая жизнь». Любовь он называет бедным чувством «с шестым миллиардом в делителе» - снова дефицит единственности. Творчество для него - «…четвертая, смертная степень шестого чувства» (Кремль). Первая цитата из Ильи, эпиграф к книге: «Погружаюсь в воду, как новая Атлантида…» (ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ), наводит эпитетом «новая» на одноименную утопию Френсиса Бэкона. Но и в бэконовской НОВОЙ АТЛАНТИДЕ главным учреждением измышленного Бенсалема является Соломонов дом, Коллегия Шести Дней Творения (курсив мой - МК), научный центр процветания государства, затерянного в Тихом океане. Оставшиеся в живых атланты перенесены Бэконом на американский континент. Это соответствует легендарному атлантическому ряду. Вот что пишет анонимный поклонник подобной теории: «Перед катастрофами всегда происходила эмиграция лучшего меньшинства. Этими эмиграциями руководили духовные вожди, предвидевшие бедствие, угрожавшее стране. Посвященные короли и учителя, следующие «благому закону», были предупреждены заранее о надвигавшихся катастрофах. Они являлись как бы центром пророческих предупреждений и спасали верные избранные племена. Такие миграции происходили тайно, под прикрытием ночи. В 9567 году до н. э. мощные землетрясения разрушили о. Посейдонис и остров погрузился в море, создав огромную волну, затопившую низины, оставив после себя память в умах людей как об огромном разрушительном потопе». «Вы помните только один потоп, хотя на самом деле их было много», - так говорил египетский жрец Солону, «мудрейшему мудрейших», передавшему Платону сведения о затонувшей «земле обетованной». Илья Тюрин вполне годился на роль такого «эмигранта». Но и бегство не спасает от Потопа. Бродский переместился непосредственно к «наставнице красноречья», воде, которую так любил, и умер от острой сердечной недостаточности. Илья думал, что во сне (ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ). Но смерти предшествовала асфиксия - мучительное удушье. Сосудам, тканям, всему организму не хватало кислорода, и Нобелевский лауреат пошел ко дну вместе со всеми кораблями своих стиховПушкин, замысливший побег в ранней юности, из всех точек пространства выбрал речку - Черную Речку дуэли. Вполне можно считать, что «солнце русской поэзии» затонуло в ней. Срок сотворения мира оставил и у Пушкина след неизгладимый: …ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них… (Исх.20:11). Кстати сказать, Книга Книг насквозь «шестикратна». Начать с того, что Ной по пришествии потопа был шестисот лет (Быт. 7:6. Не поразительно ли, что, например, в КАМЕННОМ ГОСТЕ Дон Карлос дважды повторяет Лауре: Ты молода.... и будешь молода Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя Еще лет шесть они толпиться будут…(курсив мой - МК)? Гроб с мертвой царевной привинчен «к шести столбам». В четвертой главе ОНЕГИНА утверждается, что девочки «в тринадцать лет» пишут записки непременно «на шести листах». Коляски в ДУБРОВСКОМ и ВЫСТРЕЛЕ одинаково запряжены шестью лошадьми. Или вот такое печальное показание: Шесть мест упраздненных стоят, Шести друзей не узрим боле… (Чем чаще празднует лицей…) По ассоциации вспоминается цветаевское «Ты стол накрыл на шестерых». Илья тоже окончил лицей, и не мог не сопоставлять себя с Пушкиным и по этому признаку, но не мог и не «почувствовать разницу», говоря языком рекламного клипа. Его «шестиноги», помимо аллюзии на Книгу Бытия, скорее всего, восходят к моллюскам, большинство из ста тридцати тысяч видов которых обитают в воде, и «шестиногая жизнь» названа по аналогии с брюхоногими, лопатоногими и головоногими морскими и речными беспозвоночными. Панцирь, раковина, в которой скрывается моллюск, снова создает образ клаустрофобии. «Погибшая раковина», вместе с тем, символизирует троп, вторичный поэтический образ, устрицу, которую запивают вином языка (устриц, как известно, глотают живьем): Сколько слов у языка перебродившего, Чтобы выбрать среди раковин погибшую! (Встали поздно…) Наряду с этим «шестиногость» явно корреспондирует с «шестипалостью» - «печатью дьявола», и «некто вверху» наряду с «подлогом» и «плагиатом» приобретает недвусмысленную смысловую окраску. По диспозиции - «Харибда напротив Сциллы», а не наоборот, - и по предыдущим аттестациям вдохновения автор явно идентифицирует себя с первым из чудовищ. По содержанию мифа - тоже. Коль скоро поэт в структуре постмодерна - «плагиатор», по Барту, «скриптор», переписчик глобального текста, он тем самым «харибдоподобен». Дочь Посейдона и Геи - земноводное исчадие - Харибда славилась ненасытной жадностью и воровством. Присвоение авторства, плагиат, происходит от латинского plagio - «похищаю». Клептоманию коллективное бессознательное чаще всего связывает именно с порчей, сглазом, «напущением». Но в таком случае и похищение Европы по водам было плагиатом. Поэт стремится домой, но его дом - язык - стирает, по Тюрину, «ветшающие линии границ» (СТАРИК), переставляет вехи и вещи. Скиталец Бродский знал это безошибочно: И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. (ДИДОНА И ЭНЕЙ) |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 21-06-2007 11:59 |
|
Потеря пространства есть полная безадресность. Но, несмотря на это, хронотоп не трагически жалок, а трагически героичен: «Нет страха о потерянной земле, Нет страха перед смертью во Вселенной» («Неоконечный отрывок») В одном из интервью Бродский сказал, что главная тенденция его жизни – не зависеть от внешних обстоятельств; во всяком случае, поэт внутренне настаивает на этой тенденции. Или вот еще: «Тот, кто жалуется на судьбу, Тот ее недостоин». Между Бродским и хронотопом всегда противостояние жизни и смерти. Смерти он порой не боится так, как боится жизни. Говорят, Бродский до отчаяния антиакмеистичен. Но не всегда. По Мандельштаму, «строить – значит бороться с пустотой». Бродский же противостоит ощущению разъедания хронотопа пустотой, некой трансформацией мандельштамовского строительства. Он (особенно это видно в «Большой элегии «Донну Джону») сшивает небо и землю, бытие и небытие. Именно поэтому все его лучшие хронотопные стихи этого времени, за исключением «Июльского интермеццо» и еще некоторых, написаны зимой или о зиме, в предзимье или о предзимье, когда замирает и время, и пространство, и сливаются в единый неудержимый хронотоп. Начиная с 1970 года, пустота начинает все более заметно просачиваться в стихотворения Бродского: «Ты за утрату горазд все это отомщенье счесть моим приспособленьем к циферблату, борьбой, слияньем с Временем – Бог весть! Да, полно, мне ль! А если так – то с временем неблизким, Затем, что чудится за каждым диском В стене – тоннель» («Разговор с небожителем») Пространство – да здравствует инстинкт самосохранения а lа Пушкин – и изоляция не так страшны. Именно в 1970 году были написаны и такие строки: «Друг, что пространство время – не преграда вторженью стужи и гуденью вьюг». Наиболее значимыми стихотворениями начала 70-г годов являются «Натюрморт» и «Я всегда твердил, что судьба – игра». «Натюрморт» начинается с явного разделения вещи и человека: «Вещи и люди нас окружают». Писатель старается найти себя среди людей, и находит себя в вещих: «Пора. Я готов начать. Не важно, с чего. Открыть Рог. Я могу молчать. Но лучше мне говорить. О чем? О днях, о ночах, Или же – ничего. Или же о вещах. О вещах, а не о Людях. Они умрут. Все». Бродский, не ощущая себя вещью, делит пространство не вокруг и внутри себя, а в и вне вещи: «Вещь есть пространство, вне коего вещи нет». Еще более интересны отношения вещи со временем. Пыль, в которую превращается вещь, то есть, разрушение ее, переход в небытие, не правильно – в надбытие, - это «плоть и кровь времени». В стихотворении «Я всегда твердил, что судьба – игра», Бродский пишет: «Я сижу в темноте. И она не хуже в комнате, чем темнота снаружи». Таким образом, снаружи пространство уже не делится на возле меня и вокруг этого возле меня, ритм хронотопа не разрывается. Сердцебиение вещи и сердцебиение внутреннего «я» поэта не тождественны, а отчужденно-перпендикулярны. В 70-х годах до эмиграции хронотоп не равнялся математическому умножению времени на пространство, как это было у акмеистов, так как пустота оставалась в уме. Тематика поэта эволюционировала от конфликта «я и хронотоп» до конфликта «вещь и хронотоп». В вещи сосредоточено смысла больше, чем во Вселенной, так как вещь можно ощутить. Судьба заставила слиться этим конфликтам в один, ощутить себя вытесненной из пространства вещью, и, самое главное, - сроднить хронотоп и пустоту, никогда до самой смерти не пытаясь перерезать эту пуповину. Пустота все больше начала овладевать жизнью. Время векторно указывало на 4 июля 1972 года, слилось и ним, и оставило его позади. 4 июля 1972 года Бродский эмигрировал. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 22-06-2007 11:13 |
|
Ирина Ковалева Стихотворения-«двойчатки» О. Мандельштама «Когда Психея-жизнь спускается к теням…» и «Ласточка» («Я слово позабыл, что я хотел сказать…», оба 1920) неоднократно комментировались на различных уровнях — от биографического до софиологического 1. Центральный образ «Психеи-жизни» отождествляется с «ласточкой — беженкой — товаркой — душой»2, и в качестве параллельных контекстов указываются разнообразные «Ласточки» — от Державина и Фета до Плиния Старшего 3. Разумеется, упоминается и «Слово — Психея» из статьи самого Мандельштама «Слово и культура» (1921)4. Между тем вне поля зрения исследователей оказался, по-видимому, еще один контекст, важный для понимания этих стихов. Прочитаем первые строки первого стихотворения и попробуем уяснить, что буквально 5 в них говорится: Когда Психея-жизнь спускается к теням В полупрозрачный лес вослед за Персефоной… 6 Если не интерпретировать образ Психеи 7, а понять его как имя, то получается, что «фабула» этого стихотворения воспроизводит один из эпизодов «Сказки об Амуре и Психее» — знаменитой вставной новеллы в не менее знаменитом романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (кн. IV, 28—35, кн. V, 1—30, кн. VI, 1—24). Психея (олицетворение души, но и сказочная героиня), ослушавшись запрета Амура, своего таинственного супруга, попыталась увидеть его — и в наказание должна была с ним расстаться. После долгих мучений она попадает в услужение к Венере, и та, как и положено в сказке, дает Психее несколько сложных заданий, выполнению которых способствуют чудесные помощники. Последним в ряду этих заданий оказывается спуск в подземное царство к Персефоне (Прозерпине), откуда Психея должна принести «немножко ее красоты» («modicum… de tua… formonsitate», VI, 16 8). У М.Л. Гаспарова я обнаружила неразвернутое указание на этот мотив: «…асфоделевый луг царства теней, сперва неожиданно вещественный (“Когда Психея-жизнь…”, мотив из Апулея)…»9 В настоящей работе я хочу показать, что именно из Апулея попало в стихотворение Мандельштама, и предположить, каким образом могло произойти это заимствование. К. Тарановский, возражая на критику В. Брюсова, упрекавшего Мандельштама в неточности (так как Персефона не водит души умерших в царство теней), справедливо указывает, что «вослед за Персефоной» может значить только «как Персефона», «следуя примеру Персефоны», «по пути, пройденному Персефоной»10. Добавим к этому, что именно так обстоит дело в сказке Апулея: Психея, оказавшись в своих скитаниях в храме Цереры (Деметры), умоляет богиню о помощи, заклиная ее «схождением Прозерпины к темному браку и восхождением девы к светлому обретению и всем, о чем хранит молчание святыня аттического Элевсина» (VI, 2: «et inluminarum Proserpinae nuptiarum demeacula et luminosarum fi-liae inventionum remeacula et cetera, quae silentio tegit Eleusinis Atticae sacrarium»). Психея еще не знает, что ей предстоит, получив задание Венеры, вслед за Прозерпиной живою сойти в царство теней и живою вернуться обратно, но именно это она вскоре совершит, повторив парадигматическое (закрепленное в мифе и в ритуале Элевсинских мистерий) схождение и возвращение Персефоны. В сказке Апулея находит объяснение и то, почему Психея у Мандельштама названа беженкой («Навстречу беженке спешит толпа теней…»): дело в том, что Психея, скрывавшаяся от Венеры, неоднократно именуется «беглой рабыней». Так Юнона, к которой Психея обращается за помощью после того, как ей отказалась помочь Церера, говорит, что и она не может помочь несчастной, так как ей препятствуют в этом «законы, запрещающие принимать под покровительство чужих беглых рабов» («servos alienos perfugas», VI, 4). Так и Венера просит Меркурия помочь разыскать «скрывшуюся служанку» («delitescentem ancillam», VI, 7), и Меркурий тут же объявляет о награде для всякого, кто сможет «вернуть из бегов или указать, где скрывается беглая… служанка Венеры, по имени Психея»11 («quis a fuga retrahere vel occultam demon-strare poterit fugitivam… Veneris ancillam, nomine Psychen», VI, 8). Из сказки Апулея пришли еще две детали стихотворения Мандельштама. Во-первых, для получения «красоты» Венера дает Психее «баночку», или «коробочку», — pyxidem (VI, 16)12, которую вещая башня, наставляющая Психею в том, как выполнить страшное поручение богини, строго-настрого запрещает открывать (VI, 19), но любопытная и непослушная Психея, разумеется, эту баночку открывает, освобождая «подземный и стигийский сон» («infernus somnus ac vere Stygius», VI, 21). Во-вторых, «лепешка медная с туманной переправы» Мандельштама находит соответствие в тех предметах, которые, по совету вещей башни, Психея должна была нести с собою в царство теней: два куска ячменной лепешки, чтобы накормить пса Прозерпины на пути туда и на пути обратно, и две монеты, чтобы расплатиться с Хароном за две переправы (VI, 18—20). Не исключено, что «пустой челнок», плывущий «в сухой реке» во втором стихотворении, навеян «челном Харона» и «рекой мертвых» из Апулеевой сказки («ad flumen mortuum… cui praefectus Charon… cumba deducit», VI, 18) 13. Наконец, укажем на то, что если у Мандельштама эпитет стигийский в этих двух стихотворениях повторен трижды («С стигийской нежностью и веткою зеленой» в первом стихотворении, эта же строка воспроизводится во втором, а завершается оно строкой «Стигийского воспоминанье звона»), то и у Апулея сперва Венера посылает Психею к источнику вод, питающих стигийские болота (Stygias… paludes, VI, 13), затем орел Юпитера говорит девушке об «ужасных стигийских водах и о величии Стикса» («formidabiles aquas… Stygias… per Stygis maiestatem», VI, 15), а в цитированной выше 21-й главе Психея освобождает из сосуда «стигийский сон». Остается открытым вопрос, читал ли Мандельштам сказку Апулея в подлиннике, по-латыни 14, или он мог знать, к примеру, старинный перевод Ермила Кострова 15. Куда интереснее другое: если мы взглянем на перевод сказки об Амуре и Психее, выполненный М. Кузминым, то увидим, что этот текст и стихи Мандельштама связаны более тесными узами, чем простое возведение их к общему источнику — оригиналу Апулея. Во-первых, «беженке» Мандельштама соответствует «беглянка» Кузмина: «В случае кто-либо вернет из бегов или сможет указать место, где скрывается беглянка, царская дочь, служанка Венеры…»16 Далее, «пиксида» латинского текста может переводиться как «коробочка», «сосудик», но и у Мандельштама, и у Кузмина находим «баночку»: «Кто держит зеркальце, кто баночку духов…» — «Возьми эту баночку, — и передала ей, — и скорей отправляйся в загробное царство самого Орка. Там отдашь баночку Прозерпине…»17 Далее, «лепешка медная», как мы видели, раздваивается на «овсяную лепешку» и «медную монету». Но если «куски овсяной лепешки» действительно есть у Апулея («offas polentae», VI, 18), то эпитет «медный» появляется в русском тексте: у Апулея речь идет о stipes, двух мелких монетках (греки клали в рот умершему обол — мелкую монету, которой следовало расплатиться с Хароном за перевоз: живая Психея хочет переправиться туда и обратно и поэтому берет с собой две монетки). Правда, чуть ниже деньги Психеи названы «медь», aes: et aes forte prae manu non fuerit, nemo eum exspirare patietur, VI, 18. В переводе Кузмина: «…без того, чтобы у него не было наличной меди, никто не допустит его испустить дух»18, но в латинском языке это весьма стертая метафора «денег». Наконец, эпитет «стигийский» находим и у Мандельштама, и у Кузмина, тогда как латинское Stygiae (aquae) могло бы быть переведено, например, как «Стиксовы (воды)». Вывод, казалось бы, напрашивается сам собой: Мандельштам использовал перевод Кузмина. Но есть весомый контраргумент: стихи Мандельштама написаны в 1920 г., а перевод Кузмина увидел свет только в 1929 г.19 И здесь вступает в игру «биографический фактор». Как указывает Н.Я. Мандельштам, «вся груда ленинградских стихов двадцатого года была написана в ноябре 1920 года»20. В это время Мандельштам был увлечен Ольгой Арбениной-Гильдебрандт. К стихам, посвященным Арбениной, Н.Я. Мандельштам относит «Мне жалко, что теперь зима…», «Возьми на радость из моих ладоней…», «За то, что я руки твои не сумел удержать…»21, «Я наравне с другими хочу тебе служить…» и, возможно, «Я в хоровод теней…»22. Стихи о Психее и «Ласточка» в этот список не включены. Но в 1923 г. в литературном приложении к «Накануне» оба они, вместе с «арбенинским» стихотворением «Возьми на радость из моих ладоней…», были напечатаны как цикл, под заглавием «Летейские стихи». Связь этого стихотворения с интересующей нас «двойчаткой» подробнее анализирует К. Тарановский 23. Осенью и зимой 1920 г. Ольга Арбенина поддерживала отношения не только с Мандельштамом, но и с Н. Гумилевым, также увлеченным ею, а затем неожиданно порвала и с тем, и с другим и стала спутницей Юр. Юркуна, возлюбленного М. Кузмина, и вошла в их общую жизнь 24. Кузмин, вначале тяжело переживавший эту ситуацию, затем сделал попытку примириться с ней не только внешне, но и внутренне. Так, в начале января 1921 г. он пишет стихи, обращенные к Арбениной, в которых называет ее… Психеей: Пришелица, войди в наш дом! Не бойся, снежная 25 Психея! Обитель и тебе найдем, И станет полный водоем Еще полней, еще нежнее. («Любовь чужая зацвела…») 26 |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 22-06-2007 11:24 |
|
Как все это может быть связано с Апулеем? Апулей — один из любимых авторов Кузмина, об этом поэт пишет в одном из писем 1907 г. 27 Замысел перевода романа Апулея появился у Кузмина задолго до 1929 г. Так, в 1917 г. Кузмин заключил соответствующий договор с Издательством Сабашниковых28, однако тогда этот перевод не увидел света и, по всей видимости, не был и выполнен. Но возможно ли, что в период с 1917 по 1920 г. были сделаны какие-то фрагменты подобного перевода? Возможно ли, что в 1919—1920 гг., когда разразился издательский кризис и на смену книгам пришли многочисленные поэтические вечера, Кузмин мог читать фрагменты сказки об Амуре и Психее, если к тому времени такой перевод существовал? Известно, что как раз в 1919 г. Кузмин работал над двумя прозаическими вещами, связанными с темой Рима: романом о Вергилии и романом «Римские чудеса»29. На вечере в Доме литераторов в мае 1920 г., посвященном творчеству Кузмина, поэт читал не только стихи, но и отрывки из «Римских чудес»30. Мог ли Кузмин читать где-то публично перевод Апулея осенью 1920 г., когда Мандельштам приехал в Петербург и увлекся Арбениной? Учитывая, что значительная часть архива Кузмина погибла, мы не можем ответить на эти вопросы ни утвердительно, ни отрицательно. Не исключена еще и другая последовательность событий: взявшись за перевод романа Апулея в конце 1920-х гг. для издательства «Academia» (с которым он сотрудничал и раньше, переводя и редактируя переводы прежде всего французских писателей), Кузмин вспомнил «Психею»-Арбенину и использовал стихи Мандельштама, с нею связанные 31. К «арбенинскому» циклу должно быть отнесено и еще одно стихотворение, не указанное Н.Я. Мандельштам, — «Чуть мерцает призрачная сцена…». Это стихотворение, как указывает П. Нерлер32, навеяно воспоминаниями об опере Глюка «Орфей и Эвридика» и содержит цитату из арии Орфея — «Ты вернешься на зеленые луга»33. Близость строк «И живая ласточка упала / На горячие снега» и «То мертвой ласточкой бросается к ногам» очевидна и уже отмечена исследователями 34. Добавим к этому, что оксюморону «горячие снега», несомненно, соответствует оксюморон «черный лед горит» из «Ласточки». Но тогда арии Орфея «Ты вернешься на зеленые луга» соответствует «Слепая ласточка в чертог теней вернется» (ср. «Я в хоровод теней, топтавших нежный луг…» из того же «арбенинского», «летейского» цикла). Зеленые, нежные луга или чертог теней — это Аид, «полупрозрачный лес», «поэтическое пространство»35, в котором разворачивается действие всех этих стихотворений. «Слепая ласточка», таким образом, не только Антигона, как она будет названа в предпоследней строке «Ласточки», но и Эвридика 36. Таким образом, «двойчатка» стихотворений, с которых начался наш раз-говор, оказывается скреплена реминисценциями двух античных мифов с одним общим мотивом — схождения в Аид живого человека (недаром Психея подчеркнуто названа «Психея-жизнь») и его возвращения обратно 37. В обоих случаях схождение вызвано любовью: Психея оказывается в рабстве у Венеры из-за своей любви к Амуру, и спуск в Аид и выполнение задания Венеры в конечном счете способствуют соединению Амура и Психеи (заметим, что и слово «душа» в этом стихотворении можно читать как имя собственное, «Душа»= «Психея», поскольку речь в нем идет не о «чувствах души сразу после смерти»38, но о том, что делает в царстве теней Душа, Психея, живая возлюбленная бога любви). Во втором стихотворении говорится о схождении в Аид Орфея, величайшего из смертных поэтов: спустившись в царство мертвых за погибшей возлюбленной, Эвридикой, Орфей сумел пением и игрой на кифаре растрогать самих Аида и Персефону — не об этом ли говорят строки «А смертным власть дана любить и узнавать, / Для них и звук в персты прольется»? Однако вторую половину задания Орфей выполнить не сумел — он обернулся раньше времени, и Эвридика вернулась «в чертог теней» бесплотной мыслью, не успев снова стать живой, плотской и вернуть Орфею «выпуклую радость узнаванья» — прикосновение живых «зрячих пальцев». Лирический субъект стихотворения находится в еще худшем положении, чем Орфей, — «Я слово позабыл, что я хотел сказать»: ему не о чем петь в царстве мертвых, и его любовная миссия обречена на неудачу: «Слепая ласточка в чертог теней вернется», «И мысль бесплотная в чертог теней вернется». Вероятно, он тоже возвращается из царства мертвых, ибо «стигийский звон» горит на губах все-таки как «воспоминание», но возвращается он один, без подруги. Тот же «орфеевский» мотив присутствует в «свернутом» виде в стихотворении «Я в хоровод теней…», завершающем «арбенинский» цикл и как бы подводящем итог этой истории: лирический субъект также совершает схождение в Аид, но на этот раз он знает «слово»: Я в хоровод теней, топтавших нежный луг, С певучим именем вмешался… «Певучее имя» отсылает нас к разобранному выше стихотворению «Чуть мерцает призрачная сцена…» с его арией Орфея: Из блаженного, певучего притина К нам летит бессмертная весна. Конструкция «с певучим именем вмешался» позволяет понять это «певучее имя» двояко: то ли «под именем» — и тогда это имя Орфея 39, то ли «с именем на устах» — и тогда это имя возлюбленной, Эвридики. О том, что герой стихотворения «Ласточка» — «неназванный Орфей», писал С. Ошеров 40. Ошеров, однако, соединяет миф Орфея с Психеей, полагая, что здесь «разлучается с возлюбленной-душой-Психеей поэт» и Орфей затем приходит «за возлюбленной-Психеей». Мы, напротив, старались показать разные истоки этих мотивов. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 22-06-2007 11:31 |
|
Имя Эвридики снова возвращает нас к М. Кузмину. Кузмин, будучи сам музыкантом и знатоком оперного искусства, высоко ценил оперу Глюка «Орфей и Эвридика» и даже посвятил ей специальную статью 41. Но еще интереснее, что в уже упоминавшейся книге стихов «Параболы. Стихотворения 1921—1922» есть стихотворение «Вот после ржавых львов и рева…», датированное интересующим нас 1921 г., имевшее в оглавлении книги заглавие «Блаженные рощи» и не только трактующее миф об Орфее и Эвридике, но и соединяющее в себе несколько мотивов, характерных для «арбенинского» цикла Мандельштама. Во-первых, это мотив «прозрачности» как метафоры царства смерти 42, буквально пронизывающий «арбенинский» цикл. В интересующей нас «двойчатке» он особенно насыщен: В полупрозрачный лес — лес безлиственный прозрачных голосов — прозрачные дубравы — — с прозрачными играть — прозрачны гривы табуна ночного — все не о том прозрачная твердит. Но и в других стихах цикла этот мотив представлен: — в прозрачных дебрях ночи («Возьми на радость из моих ладоней…»); — прозрачной слезой на стенах проступила смола («За то, что я руки твои не сумел удержать…»). В стихотворении «Чуть мерцает призрачная сцена…» эпитет «призрачная» является своего рода «анаграммой» «прозрачности». И вот Кузмин, живописуя пейзаж Аида, использует ту же краску, вернее, ту же бескрасочность: Стоячих вод прозрачно-дики Белесоватые поля… Пугливый трепет Эвридики Ты узнаешь, душа моя? Далее, и стихотворение Кузмина, и стихотворение Мандельштама «Чуть мерцает призрачная сцена…» содержат явственную отсылку не к мифу об Орфее как таковому, но именно к опере Глюка: Мандельштам, как уже сказано, цитирует слова арии Орфея и даже называет само слово ария («Чтобы вечно ария звучала…»), а затем в финальном образе соединяет черты театра и Аида: Из блаженного, певучего притина К нам летит бессмертная весна. У Кузмина акцентирован не текстовой («ария»), а музыкальный аспект, но так же соединены театр и царство смерти: Пристанище! поют тромбоны Подземным зовом темноты. «Притину» Мандельштама отвечает «пристанище» Кузмина, а эпитет «блаженный», тоже скрепляющий «арбенинский» цикл, появляется у Кузмина в финале стихотворения: Ведет причудливо и туго К блаженным рощам благодать. Указанное сопоставление использования данного мотива Мандельштамом и Кузминым интересно, на наш взгляд, еще и тем, что позволяет не просто перечислить «параллельные места», но увидеть стихотворение как часть «истории поэта»43. В данном случае речь идет об истории двух поэтов. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 22-06-2007 11:35 |
|
1) Швейцер В.А. К вопросу о любовной лирике О. Мандельштама // Мандельштам и античность. М.: Радикс, 1995. С. 154—162; Террас В.И. Классические мотивы в поэзии Осипа Мандельштама // Там же. С. 24; Левин Ю.И. Заметки о «крымско-эллинских» стихах О. Мандельштама // Там же. С. 77—103; Ошеров С.А. «Tristia» Мандельштама и античная культура // Там же. С. 198—201; Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 112—123, 138— 164; Hansen-Love A.A. Mandel’shtam’s Thanatopoetics // Культура русского модернизма. В приношение В.Ф. Маркову. М.: Наука, 1993. С. 121—157, и др. 2) Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама. С. 114. Курсив автора. 3) Там же. С. 121. 4) «Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990. С. 171). Этот пассаж цитируют почти все исследователи. Заметим, однако, что чуть выше в той же статье Психеей названа предвкушаемая «новая природа», «царство духа без человека»: «…в нежном бытии новой природы, природы-Психеи» (Там же. С. 168). 5) Здесь и далее курсив мой. — И.К. 6) Здесь и далее стихотворения О. Мандельштама цитируются по изданию: Мандельштам Осип. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1990. 7) В задачу данной работы не входило, разумеется, собрать все контексты с упоминанием Психеи в русской поэзии от Державина до Ходасевича: нас интересовали те параллели, которые объяснимы не только литературными, но и биографическими «сближениями». Тем не менее укажем на одну параллель, не связанную с событиями жизни Мандельштама 1920—1921 гг., но, может быть, существенную для понимания анализируемых стихов. Отождествление «Психеи» с «ласточкой» есть в стихотворении Марины Цветаевой «Психея» (1918): «Я ласточка твоя — Психея!» Вообще тема «Психеи», крылатой души, противопоставленной «Еве», земной любви, быту, пошлости и т.п.,— одна из магистральных в творчестве Цветаевой. Ср.: «Нельзя, припадя к устам,/ Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст…» («Федра», 1923). Вышедший в 1923 г. в Берлине сборник стихов носил название «Психея». Ср.: «Психею (невидимую) мы любим вечно, потому что заочное в нас любит — только душа! Психею мы любим Психеей…» (письмо А. Бахраху от 20 июля 1923 г.); «…ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи — все!» (письмо Борису Пастернаку от 10 июля 1926 г.). Эта тема заслуживает отдельного исследования. 8) Сказка об Амуре и Психее здесь и далее цитируется по изданию: Apuleius. Amor und Psyche. Lateinisch und deutsch. Leipzig: Verlag Philip Reclam, 1981. 9) Гаспаров М.Л. Поэт и культура (три поэтики Осипа Мандельштама) // Гаспаров М.Л. О русской поэзии. СПб.: Азбука, 2001. С. 221. 10) Тарановский К. Указ. соч. Примеч. 15. С. 120. 11) «Беглая… Психея»: имел ли в виду Апулей знаменитое предсмертное стихотворение императора Адриана — «Animula, vagula, blandula…»? Сходство их увидел Э. Паунд, включивший рядом в книгу «Canzoni» стихотворения «Речи Психеи» и «Blandula, tenulla, vagula». Стихотворение императора Адриана О. Седакова перевела так: «О душенька, беженка, неженка…» — имела ли она в виду Мандельштама? Интересно, что у М. Кузмина в книге стихов «Параболы. Стихотворения 1921—1922» (1923), о которой подробнее будет сказано ниже, в разделе «Песни о душе» есть стихотворение «Любовь», начинающееся со скрытой цитаты из стихотворения императора Адриана: «Любовь, о подруга тела…»: у Адриана «душенька», animula, названа hospis comesque corporis — «гостья и спутница тела». 12) «Красота» здесь мыслится чем-то вроде притирания, поэтому ее вместилищем служит пиксида. Далее Психея открывает баночку с «красотой», намереваясь взять немножко для себя, как если бы это был крем или духи: материализация метафоры вполне в духе Гомера, у которого боги «проливают» красоту на смертных («Одиссея»,VI, 229 — 235, XVIII, 190—197, XXIII, 156—162). У Мандельштама она закономерно превращается в «баночку духов». 13) Как указывает П. Нерлер (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 488— 489), в архиве Мандельштама есть авторизованный список этого стихотворения, в котором последняя строфа завершается так: «Дохнет на зеркало — и медлит уплатить / Лепешку медную хозяину парома». Этот вариант еще ближе к тексту Апулея, где Харон назван praefectus («начальник» реки мертвых и переправы через нее). 14) Ср. в «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам: «Латинских поэтов накопилось довольно много — Овидий, Го-раций, Тибулл, Катулл… Почти все они покупались в изданиях с немецкими переводами, потому что немцы, как переводчики, точнее французов» (Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 231). 15) Отдельный и заслуживающий специального исследования вопрос — отношение анализируемого стихотворения Мандельштама к поэме И. Богдановича «Душенька». Не предвосхищая его возможных результатов, скажем только, что Богданович дальше уклоняется от фабулы сказки Апулея, чем Мандельштам, и в тексте его поэмы нет таких поразительных лексических совпадений со стихотворением Мандельштама, как в тексте перевода М. Кузмина, о котором речь пойдет чуть ниже. 16) Здесь и далее перевод М. Кузмина цитируется по изданию: Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М.: Худож. лит., 1988. В этом издании перевод Кузмина печатается в версии, наиболее близкой к авторской. С. 197. 17) Апулей. Метаморфозы… С. 200—201. Разумеется, можно заметить, что в стихотворении Мандельштама «баночку духов» держит не Психея, но кто-то из спешащих ей навстречу теней: но Мандельштам пишет все-таки не переложение сказки Апулея, а лишь использует некоторые ее мотивы. Вообще же «сдвиг мотива» чрезвычайно характерен для Мандельштама. Ср.: «Точно таким же образом Мандельштам озаглавливает “Равноденствие” стихи о несомненном солнцестоянии, у него “Моисей водопадом лежит” (контаминируясь с “Ночью” и микельанджеловским четверостишием о ней), а Елену сбондили греки, а не троянцы: по-видимому, это методика» (Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2001. С. 16). Говоря о «методике», М.Л. шутит, но я полагаю, что из этой «методики» проистекли серьезные последствия, например, для И. Бродского. Этой проблеме должна быть посвящена отдельная работа. 18) Апулей. Указ. соч. С. 201. 19) Апулей Люций. Золотой осел (Превращения): В 11 кн. / Пер. М. Кузмина. Л.: Academia, 1929. 20) Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990. С. 54. 21) Характерно, что в первоначальной редакции это стихотворение начиналось со строки «Когда ты уходишь и тело лишится души…» (Приведено в комментарии Н. Харджиева к изданию «Стихотворений» Мандельштама 1973 г., ср.: Гаспаров М.Л. «За то, что я руки твои…» — стихотворение с отброшенным ключом // Мандельштам и античность. С. 107—111), т.е. и здесь возлюбленная приравнивается к душе (=Психее). В финальной строфе этого стихотворения есть и ласточка («И серою ласточкой утро в окно постучится»). 22) Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 53—54. 23) Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама. С. 146—148. В.А. Швейцер безоговорочно включает «Когда Психея-жизнь…» в число стихов, связанных с Арбениной (Швейцер В.А. Указ. соч. С. 156—157). 24) См. об этом: Богомолов Н.А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М.: НЛО, 1996. С. 228— 231. 25) В этом эпитете слышен отзвук мандельштамовского «нежный», дважды повторенного в «Психее-жизни»: «С стигийской нежностью» и «И в нежной сутолке» (и, может быть, «беженки»). 26) Цит. по: Кузмин М. Избранные произведения. Л.: Ху-дож. лит., 1990. С. 262. Отметим, что в ту же книгу стихов «Параболы», в которую включено цитируемое стихотворение, вошло еще одно стихотворение 1921 г. — «Врезанные в песок заливы…», также содержащее упоминание Психеи (Там же. С. 248—249). 27) В.В. Руслову, см. публикацию и комментарии в: Богомолов Н.А. Михаил Кузмин. Статьи и материалы. М.: НЛО, 1995. С. 209—212. 28) Сердечно благодарю Н.А. Богомолова, указавшего мне на этот факт. 29) Богомолов Н.А., Малмстад Дж. Э. Указ. соч. С. 217—218. 30) Там же. С. 218. 31) Предположение Н.А. Богомолова, с которым я обсуждала эту проблему. 32) Мандельштам О. Соч.: В 2 т. Т. 1. Коммент. П. Нерлера. С. 490—491. Интересно, что, как сообщает Нерлер со ссылкой на А. Парниса, автограф этого стихотворения был вписан в альбом Ю. Юркуна. 33) Н.Я. Мандельштам, хотя и не относит это стихотворение к «арбенинскому» циклу, отмечает, что ей было известно и от Арбениной, и от Мандельштама, что они вдвоем были «в балете» и разрыв произошел по возвращении из театра (Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 55). Возможно, Мандельштам и Арбенина были не «в балете», а именно на опере Глюка. 34) См.: Hansen-Love A.A. Mandel’shtam’s Thanatopoetics. С. 130. 35) Тарановский К. Указ. соч. С. 112; Ошеров С. Указ. соч. С. 198—201. 36) Полагаю, что А. Ханзен-Лёве напрасно видит в «голубке» Эвридике особую связь с «ласточкой» через «птичий» мотив — и тем паче «софиологические ассоциации» «духа», «души» и «голубя» (Hansen-Love A.A. Mandel’shtam’s Thanatopoetics. С. 130): «голубка» здесь ласковое обращение к любимой женщине, и в нем не больше «птичьего» и «софийного», чем в пушкинском «голубка дряхлая моя». 37) Здесь моя точка зрения противоположна мнению Ю.И. Левина (Левин Ю.И. Указ. соч. С. 101, примеч. 4 ). Единственное возражение против того, что Психея жива в царстве теней, могло бы опираться на именование ее «товаркой» теней: «Навстречу беженке спешит толпа теней, / Товарку новую встречая причитаньем…» Но в античной мифологии «душа» и «тень» (в значении «душа умершего») — синонимы: тени встречают Душу/Психею как «товарку новую», как новую пришелицу в их царство. Но Психея жива: не потому ли тени взирают на нее «с недоумением [ибо что живой делать в царстве мертвых? — И.К.] и робким упованьем»? Не потому ли Мандельштам наделяет ее столь характерным жестом, отличающим живых от мертвых, — «дохнет на зеркало»? Не потому ли она «медлит» расплатиться с Хароном, что, в отличие от мертвых, думает о возвращении? 38) Рецензия В. Брюсова, цит. по: Террас В.И. Классические мотивы… С. 24. 39) Связь эпитета «певучий» с именем Орфея присутствует уже в раннем стихотворении «Отчего душа так певуча…» (1911): «Отчего душа так певуча / И так мало милых имен… / О, широкий ветер Орфея…» (ср.: Гаспаров М.Л. Поэт культура... С. 199). 40) Ошеров С. Указ. соч. С. 198—201. 41) «”Орфей и Эвридика” кавалера Глука» // Кузмин М. Условности. Статьи об искусстве. Пг., 1923. 42) См.: Тарановский К. Указ. соч. С. 20, примеч. 14. 43) См. об этом подробнее в: Нестеров А.В. Поэтическое высказывание: контекст и интертекст (или о творчестве Э.Э. Каммингса на фоне английской поэзии барокко) // Литература ХХ века: итоги и перспективы изучения. Материалы Вторых Андреевских чтений. М.: ЭКОН, 2004. С. 41. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 22-06-2007 12:23 |
|
Часть вторая Как Кафка жестокосердно экспериментировал со своими героями, так судьба экспериментировала с Бродским, изменяя пространство и существование в нем. Изменение пространства – это новый этап жизни, следовательно, – хронотопа: «Но забыть одну жизнь – человеку нужно, как минимум, Еще одна жизнь. И я эту долю прожил». («Дорогая, я вышел сегодня из дома поздним вечером») Но это –потом, а пока личность раздвоена ностальгией: «Здравствуй, Томас. То – мой призрак, бросивший тело в гостинице где-то за морями, гребя против северных туч, поспешает домой, вырвавшись из Нового Света, и тревожит тебя» («Литовский ноктюрн: Томасу Верцлова») Пространство и время не властны: «Безразлично, кто от кого в бегах. Ни пространство, ни время для нас не сводня». Но это – в любовном мире, а в мире философско-поэтическом – другое: «Северо-западный ветер его поднимает ногу сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы по двору обветшалой фермы, суслика на меже…» («Осенний крик ястреба») Эти строки из стихотворения «Осенний крик ястреба». Ястреб не раз был, не раз будет у Бродского. Вернее, раньше образу ястреба был аналогом элегический образ мотылька (см. «Я обнял эти плечи и взглянул») или бабочки (см. «Бабочка»). Образ этот воспринимается двояко: как единственная связь и единственная преграда между авторским «я» и ничем, пустотой, смертью. Это животрепещущее стихийное начало спасают от пустоты и статики. Но ощущение полета – это не классическое ощущение свободы, а, наоборот, ощущение сжатости в пространстве. «Осенний крик ястреба» до боли, до яви автобиографичен. Ястреб, как и Бродский, вытесняется пространством, точнее, хронотопом (действие происходит поздней осенью). И когда боль души (для ястреба – плоти) становится невозможной, когда тело не может опуститься на землю (на родину), то есть когда оно начинает познавать небытие, пустоту мира, «И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк, Клюва, похожий на визг эриний, Вырывается и летит вовне Механический, нестерпимый звук, Звук стали, впившейся в алюминий, Механический, ибо не Предназначенный ни для чьих ушей: Людских, срывающейся с березы белки, тявкающей лисы маленьких полевых мышей; отливаться не могут слезы никому. Только псы задирают морды. Пронзительный, резкий крик страшней, кошмарнее ре-диеза алмаза, режущего стекло, пересекает небо. И мир на миг как бы вздрагивает от пореза». Не слово ли поэта вырывается изо рта? Не сжатая ли некрологически-тоскливая неизбежная эмоциональная сила звука о себе самом, о себе и о пустоте?.. Нет. Только о пустоте. О переходе в нее. Критическая ситуация времени между осенью и зимой (первое слово заглавия – «осенний», последнее слово стихотворения – «зима») отражается на переходе из пространства в пустоту, из бытия в небытие, в над-бытие, в дантовскую новую жизнь, в державинское ощущение дефиса между жизнью и смертью в стихотворении «Лебедь». Во всяком случае, Бродский взял из «Лебедя» идею существования между двумя мирами и переход из одного в другой. Однако у Державина поэт – «мнимый мертвец»; у Бродского поэт реален в жизни и слишком реален в смерти. Сжимаясь в хронотопе в своей слишком-реальности, Бродский умирает от познания пустоты. Мы не можем понять, что будет значить хронотоп для Бродского в будущем, не почувствовав его отношения к вещи и соотношение вещи с пространством. Ю. Лотман, говоря о поэзии Бродского середины 70-х годов, сделал замечательное наблюдение: «Вещь может поглощаться пространством, растворяясь в нем. Цикл «Новый Жюль Верн» начинается экспозицией свойств пространства: «Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна», которое сначала нивелирует индивидуальные особенности попавшей в него вещи: «И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль Выглядит одновременно как дерево и журавль, Из-под ног у которых ушла земля – И, наконец, разрушает и полностью поглощает ее». Примечательно при этом, что само пространство продолжает «улучшаться» за счет поглощаемых им вещей: «Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод Вдалеке на волне покачивается какой-то безымянный предмет». Аналогичным образом поглощаемый пространством неба ястреб своей коричневой окраской не только «не портит» синеву неба, но и «улучшает» ее: «Сердце, обросшее плотью, пухом, пером, крылом, бьющееся с частотой дрожи, точно ножницами сечет, собственным движимое теплом, осеннюю синеву, ее же еле видного глазу коричневого пятна». (Ю. Лотман, «Между вещью и пустотой», с. 739) Как я уже говорил, авторское «я» Бродского и «я» лирического героя, т.е. ястреба, почти отождествляются. Следовательно, можно сделать вывод (в первую очередь, на основе наблюдений Лотмана), что Бродский отождествляет свою экзистенцию и экзистенцией вещи. Каким образом это произошло, показывают «Письма династии Минь» (1977): «Силы, жившая в теле, ушли на трение тени и сухие колосья дикого ячменя». Расшифруем: Бродский обессилен и бессилен перед переменой пространства, поэтому он износил свое тело больше, чем тень, которая является – вспомним – очертаниями вещи. Силы были потрачены телом на то, чтобы не стерлась тень. Другими словами, поэт фактически перешел в вещь. Время же заболевает эффектом пространства поглощать людей: «Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска Уводят людей из города. По вечерам – тоска». А через год еще безудержнее: «Все, что мы звали личным, что копили, греша. Время, считая лишним, Как прибой с голыша, Стачивает – то лаской, То посредством резца – Чтобы кончить цикладской Вещью без черт лица» Эти постоянные сравнения себя с тоской («Осенний крик ястреба»), с туманной слаженностью себя с пространством, объясняется тем, что «скорость света есть в пустоте» («Строфы») Скорость света равна 299792558+/-1,2 метра в секунду, или, что более просто и еще более жутко, один хронотропный километр в секунду. Единственное, что может спасти поэта, - это его крик, прорезающий пространство, из которого брызжет кровь – пустота: «Человек превращается в шорох пера по бумаге, в кольца петли, клинышки букв, и, потому что скользко, в запятые и точки» («Декабрь во Флоренции»). И все равно не спастись: «Наклонившись, я шепну тебе на ухо что-то: я благодарен за все: за куриный хрящик и за стрекот ножниц, уже кроящих мне пустоту <…> Чем незримее вещь, тем оно верней, Что она когда-то существовала На земле, и тем больше она – везде» («Римские элегии») Все исследователи, вторя друг другу, полифонично заявляют, что в последних строчках обнаруживается издырявленность и испустошенность пространства, которые подразумевают растворенность вещи в пространстве, т.е. пустота является рассосавшейся вещью, вернее, вещностью. По мне, так эти строки о себе самом: Бродский, став никем (ничем), тоскует о своем существовании до, чувствуя свою неразрывность с ленинградским хронотопом. Разве не отсюда эта, уходящая в молчание, в шепот, в интонационное многоточие, предельность? Впрочем, антагонизма в общем-то нет, просто я пытаюсь спроецировать литературоведческое мнение на хронотопное мировосприятие. И даже поэзия не спасает. Позвольте! При чем тут поэзия? Предельность – предельностью, антагонизм – антагонизмом, а о поэзии ни сло… Еще раз: «Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то: я благодарен за все». В другом стихотворении того же 1981 года он пишет: «Можно выдернуть нить, но не найти иглы» («Прилив»), но еще 18 лет назад Бродский сформулировал: «Талант – игла, но только голос нить/ и только смерть всему шитью пределом» («Мои слова, я думаю, умрут»). То есть можно потерять голос (нить), но не найти таланта (иглы). Теперь он шепчет: наклонись, я шепну. Итак, умаление своего масштаба и значение уже как вещи для Бродского связано с пределом этого «шитья» – смертью (в хронотопном варианте читай – пустотой). Двумя годами ранее было упоминавшееся интервью Джона Глэда с Бродским: «Д.Г. Когда речь заходит о ваших стихах, то часто говорится о влиянии Джона Донна. И.Б. Я написал стихотворение, большую элегию Джону Донну. Впервые я начал читать его, когда мне было 24 года, и, разумеется, он произвел на меня сильное впечатление, ничуть не менее сильное, чем Мандельштам и Цветаева. Но говорить о его влиянии? Кто я такой, чтобы он на меня влиял?» (Джон Глэд, «Беседы в изгнании»... с.131) Это интервью взято в 1979 году. Через 8 лет – Нобелевская премия. Хронотоп все отчаяннее. Бродский все больше уменьшается: «Точка всегда обозримей в конце прямой». Не о своей ли прямой жизни здесь? Далее: «Веко хватает пространство, как воздух – жабра Изо рта, сказавшего все, кроме «Боже мой», Вырывается с шумом абракадабра». Дальше еще категоричнее… Дальше… «Дальше ехать некуда. Дальше не отличишь златоустца от златородца. И будильник тикает в тишине, Точно дом через десять минут взорвется». Пространство становится ограниченным, внутреннее «я» Бродского – атомно, поэзия – еще меньше; пустота еще больше. Бродский начинает воспринимать себя не как вещь, а как дыру, отсутствие вещи. Осталась только форма, след от вещи, и то малые, крошечные. Как бы не растерять. «Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало; пустяк; дыра, не небольшая». («Пятая годовщина») Хронотоп слился с пустотой, приравнялся, растаял в ней. Приведем два знаменитых отрывка: Первый. «Плещет лагуна, сотней Мелких бликов тусклый зрачок казня За стремленье запомнить пейзаж, способный обойтись без меня» («Венецианские строфы») Второй. «Нарисуй на бумаге пустой кружок. Это буду я: ничего внутри. Посмотри на него и потом сотри» («То не муза воды набирает в рот») Но, как ни странно и как не парадоксально (а Бродский говорил, что его существование парадоксально), но именно став пустотой, ничем, точнее, отсутствием того, чем он был, слившись со смертью, он обрел ее (пустоты) власть и силу. Поэт сам только начинает это сознавать. Вспомним «Осенний крик ястреба» и прочитает одну строчку, написанную в 1981 году: «Так следы оставляет в туче, кто в ней парил». Возможность оставить след с точки зрения хронотопной философии Бродского – это гораздо больше, чем быть вещью. Свойства вещи меньше, чем пустоты. Пустота насыщена, простите за оксюморон. Она – исчезнувшая вещь или множество вещей, поглотившихся смертью: «В этом и есть, видать, Роль материи Во времени – передать Все во власть ничего» («Сидя в тени») Во второй половине творческой жизни, почти всегда несовпадающей с жизнью реальной, физической, поэт раскрывает самого себя, находит в себе или во вне нечто космическое, если угодно, аналог макрокосму. Пушкин наконец-то обрел «счастье и права», уйдя в антиромантизм, антисентиментализм и даже в антиреализм, то есть, став самим собой, найдя себя в искусстве и природе. Лермонтов шагнул в бездну, открывая невозможное в звездах и природе. Пастернак смело перечеркнул свои никак ненадышащиеся своей оригинальностью и непонятностью стихи и ушел в чистую религию. Бродский потерял все, даже больше, чем все, - себя, свою плоть, размер, пространство. Иными словами, стал пустотой, иными словами, став почти что Богом. Ведь «только размер потери делает смертного равным Богом» («1972 год»). Пустота – это единственная надежда на выживание: «Идет четверг. Я верю в пустоту. В ней как в аду, но более хреново. И новый Дант склоняется к листу И на пустое место ставит слово». («Похороны Бобо») Эти строчки были написаны в 1972 году. Сейчас пустота обожествляет того, кто ее понимает или с ней соприкасается: «И по комнате, словно шаман, кружа, Я наматываю, как клубок, На себя пустоту ее, чтоб душа Знала что-то, что знает Бог» То божественное, что поэт приобретает, - это не ясная четкая мысль, а чувство ухода в высшее пространство, исчезновение из того реального пространства, которым он был вытесняем. Но это совершенно не означает, что он встал вне, над, в стороне от хронотопа. Он ощущает и время, и пространство. Он может посмотреть на свою жизнь со стороны, а потребность в этом взгляде ощущалась всегда. И поэтому Бродский может увидеть себя со стороны, как часть жизнь, но не может увидеть себя как часть хронотопа, то есть его существования. Единственное, что поэт может добиться благодаря и во имя пустоты – это только «не страшиться процедуры небытия как новой формы своего присутствия, списав его с натуры» («На выставке Карла Вейлинка») Ибо пустота и небытие, что одно и то же, для Бродского имеют профиль, то есть, очертания. Увидишь эти очертания – не будешь бояться пустоты. Однако ощущение пустоты не исключает ощущения себя как вещи. Эти два ощущения борются. Именно поэтому Бродский чувствует время, которое параллельно пустоте. Вот они, простые детские аксиомы: «От любви бывают дети. Ты теперь один на свете <…> Это – кошка, это – мышка, это – лагерь, это – вышка, это – время, тихой сапой убивает маму с папой» («Представление») Еще один интересный вопрос: может быть, в пустоте Бродский пытается ощутить незабываемый ритм и дыхание петербургского хронотопа? Неужели, как по Мандельштаму, «в Петербурге мы сойдемся снова»? Да нет. Вряд ли. Во всех интервью и беседах на вопросы с подобным мандельштамовским эпиграфом (сам Бродский поставил такой эпиграф в переводу стихотворения Томаса Венцлова «Памяти поэта») звучат слова: «Хотел бы, но обречен», «Да нет», «Не пустят», «Очень желал бы, но навсегда», «Нет надежды, возможности», «Нет», «Нет…», «Нет…». И пока звучали калейдоскопом эти «нет», сливались пространства жизни в надпространства поэзии, пока он рассуждал о тени, горах, мухе, реках, о примечаниях к прогнозам погоды, о рождественской звезде, о послесловиях, сходил с ума, пьянел, болел этой ерундой, которую мы иногда называем философией, а иногда – поэзией, а он называл хронотопом, случилась Нобелевская премия. Промелькнул белый фрак, взятый напрокат (вспоминаете?), слова благодарности… Догадываюсь, как он торопился: всего 10 минут на все творчество. Он был между нигерийским писателем Шойинка Воле (Нобелевская премия 1986 года) и египетским писателем Махфуз Наибом (1988 год), пятьдесят третьим писателем-лауреатом после Бунина, тридцать первым – после Пастернака, двадцать четвертым после Шолохова, восемнадцатым после Солженицына… А время теперь все больше и больше приближалось к 1996 году, потому что, как ни крути, а жизнь диссиметрична (говорят, этим она схожа со Вселенной). Пустота уже остановилась, и теперь «пространство в телескоп звезды Рассматривает свой лов, ломящийся от пустоты», то есть теперь пространство ловит пустоту. Хронотоп становится не так трагичен; через пространство Бродский все больше познает пустоту, а через нее – смерть. И скоро познает ее окончательно, но написать о ней ничего не сможет. «Поэтика Бродского служит стремлению преодолеть страх смерти и страх жизни», - пишет критик В. Баевский, - «разумеется, у Бродского все равно получается стихотворение не о пространстве и времени, … а о том, что от смерти не уйти, а от жизни уйти можно только в смерть». Другой критик и литературовед Л. Баткин пишет: «У Бродского не было, сколько бы он не дурачил нас рассуждениями на эту тему (о пространстве, времени и вещи – В.К.), никакой «концепции пространства и времени». Как это ни странно, но это действительно так. Дело в том, что как бы Бродский не отбивался от пространства, каких бы экспериментов с хронотопом он не делал (вернее, хронотоп с ним), поэт все равно вынужден был признать в 1985 году, что «всякое перемещение по плоскости, не продиктованное физической необходимостью, есть пространственная форма самоутверждения». В этой потребности самоутверждения изменяющиеся системы координат и полюсов делали поэзию Бродского хаотичной, а «сущность бытия определялась случайно» (Именно этим она полностью противоположна платоновскому космосу и так желает слиться с философией Тютчева). Желает и не сливается, так как слишком мечется поэзия Бродского в вакууме хронотопа, от акмеизма до антиакмеизма, и в результате – совсем в другую плоскость – в этомологический (нарочито негуманитарный) постмодернизм. Но в этой хаотичности Бродский познает мир во всех его проявлениях, чувствуя, обнимая и осознавая пустоту хронотопа и все-таки побеждая ее: «Мир создан был из смешения грязи, воды и огня, воздуха с вскрапленным в оный криком: «Не тронь меня!», рвущимся из растения, в последствии – изо рта, чтоб ты не решил, что в мире не было ни черта. Потом в нем возникли вещи, любовь, в лице – Сходство прошлого с будущим, арии – с ТБЦ, Пришли в движение буквы, в глазах рябя. И пустоте стало страшно за самое себя». |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-07-2007 22:34 |
|
С.А.Смирнов АВТОПОЭЗИС ЧЕЛОВЕКА. ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание. О.Мандельштам О. Мандельштаму Я хотел этот ритм обуздать на скаку, Но не вяжется слог мне на слух, Ни списать, ни считать, ни спросить не могу, Мой поэт, мой учитель, мой друг. В ненадежном году ты был Богом рожден, Ты всему современником был, Ты с Всевышним на ты, ты дуэлил с вождем, И тебя только равный убил. В этой битве смертельной, схватившись на стык, В пику с литературным зверьем, Ты с зажатым в кулак гениальным чутьем, Предугадывал времени рык. Ты один на один голос драл напролет, Сердце рвал на клочки и разрыв, А кругом густопсовая сволочь ревет, Невзирая на боль и ушиб. Неизвестный солдат, без звезды и погон, Ты в окопах поэзии жил, И в могиле ты братской с гурьбой и гуртом Погребен, и бульдозером срыт. Но сквозь бред немоты, черноты, пустоты Я твой голос услышал, и впредь Он звенит хрусталем голубой чистоты, Здесь бессильны судьба или смерть. 10 июня 2005 г. 1. Введение. Идея творения Кто не проходил через искус творения нового мира? Кто не испытал онтологической тяги созидания вещей, не изведанных и не виданных ранее, демиургом которых себя чувствуешь и потакаешь себе, давая право судить, что ты – Бог? Быть поэтом – испытание. Онтологическая тяга и искус – удел и судьба тех, кто призван творить мир по образу и подобию своему. Появляется Поэт – и мир меняется. Становится другим. Искусство есть творение, творение нового мира. Это утверждение с одной стороны стало общим местом. С другой стороны, оно настолько фундаментально, что требует всякий раз возврата к себе, к собственным основаниям. Что стоит за этим утверждением? Или оно в объяснениях не нуждается? Не боясь казаться назойливым, полагаю, что данное утверждение не раскрыто, а, точнее, не введено в культурные практики и дискурсы. Оно витает отдельно в разных декларациях разных «ведов» или спит в некоторых фундаментальных текстах типа работы М.Хайдеггера «Исток художественного творения» [32]. М.Хайдеггер глубок и темен, как вещь в себе. Он стал патриархален после постмодернистских деконструкций и деструкций, которые он же, М.Хайдеггер, и спровоцировал, отказавшись от метафизики. Придется снова вернуться к началу, к истоку, к новому разговору. А в качестве собеседников пригласить самих поэтов. И в разговоре вместе с ними поискать корень творения. В одиночку философ его не найдет. У писателей-прозаиков ситуация сложнее. Они нет-нет да скатятся в прозаизмы и в нравоучения. Чуть шаг в сторону – и вот великий Ф.М.Достоевский поливает грязью всех евреев. Чуть отвлечешься – и вот Л.Н.Толстой поучает своих читателей, призывает к новой религии. Хлебом не корми – а поучить жизни их брат-писатель любит. У поэта все иначе. Не проще, а чище. Чистота дискурса, культурной формы поэтического слова, заключается в ясном, чистом акте искуса. Поэт в чистом виде – творец мира, то есть формы мира. Он и есть воплощение этой культурной формы. Он собой ее воплощает, демонстрируя собой его, этого мира, «боль и ушиб». Поэт есть тот творец формы мира, которая рождается в страсти искуса. Он, в искусе одержимый, одерживает победу над стихией, рождая чистую форму мира, но мира не этого, а потустороннего, мира поэтического органона, который оседает в текстах, следах поэтической работы, при чтении которых пойэтес всякий раз оживает, тем самым подтверждая тезис о бессмертии души.[1] Поэт, герой-жертвователь и герой-понтифик (гиеродул) в одном лице, в исходном культурном задании, открытом античными авторами, осуществляет жертвоприношение. Он отдает свое тело в жертву, осуществляя литургию жертвоприношения. И в качестве дров этот истопник бросает в огонь жертвенника свою плоть, сжигая и исстрачивая свою органику, свои губы, рот, глаза, череп, руки, всю свою антропологию, всю телесность, а метафоры тела становятся частями, «органами» стихотворной формы. Поэтому я возьму в качестве собеседника поэтов, наиболее полно (а потому и жертвенно), как мне видится, воплотивших работу по строительству поэтического органона. В качестве первого собеседника я приглашаю Осипа Мандельштама. Я не буду делать поэтический литературоведческий анализ текстов (см. соответствующие работы известных авторов [9]), не буду напоминать о трагизме судьбы поэта, о чем тоже много написано (см. также [18; 29]). Хотя и этого не избежать, поскольку поэт по определению, как я уже сказал, в одном лице – и жертва и жертвователь. Я попробую описать устройство чистой культурной формы мира, мира поэтического органона, культурного тела поэта, которое нам и остается в живой памяти, и показать это на примере конкретных жизней, конкретных «трудов и дней» живых поэтов. Я не стиховед. Не литератор. Я философ. Мне нет нужды разбирать стихи, выискивать в них тропы, вычислять стихотворные размеры, обсасывать метафорику стиха, изучать ритмику и строфику, выяснять, где там цезура и каким размером написана «Грифельная ода» (хотя и это, к слову, можно учитывать). Я также не биограф. Я не собиратель материала к биографии. Я не собираюсь писать еще одну биографию поэта. Во-первых, это уже сделали умные люди. После воспоминаний А.А.Ахматовой, Н.Я.Мандельштам, исследований М.Л.Гаспарова, А.Г.Меца и других это делать совсем ни к чему. Во-вторых, собственно биография человека по имени Осип Эмильевич Мандельштам сама по себе хоть и интересна, но она будет еще одним рассказом о жизни и гибели поэта в тоталитарном режиме. Гораздо сложнее и интереснее понять – что такое делал Мандельштам, единственный из поэтов в 20-е – 30-е годы (за исключением Цветаевой, но она приехала в СССР в 1940 году, когда Мандельштама уже не было в живых, о ней поговорим в отдельной работе), вознамерившийся делать такое, что не укладывается ни в один из привычных жанров биографии или жанров литературоведческого анализа. Разного рода рассказы про то, как он мучился и метался, жил бомжем и погиб в ГУЛАГе сами по себе никакого отношения к тайне творения не имеют. И с другой стороны, сам по себе разбор очередного стиха, выискивание его гениальных метафор тоже не дает ответа на вопрос о тайне поэтического органона. Я буду касаться биографических эпизодов лишь постольку, поскольку они будут давать знание о сугубо метафизической стороне дела, то есть о тайне автопоэзиса. Что мне важно? Прежде всего, как озаглавлена данная работа, мне важен принцип автопоэзиса человека. Я его понимаю как процесс рождения и творения культурной формы силой метафизического, предельного вопрошания, к которой он прибегает для воплощения своих результатов поэтической работы. Автопоэзис обозначает смысл и суть процесса внутреннего преображения и трансформации культурного героя, который (процесс) происходит благодаря осуществлению различных культурных практик (философских, художественных, религиозных).[2] В результате вопрошания и воплощения этой формы в человеке рождается иное существо под названием «поэт», который говорит поверх голов, в «большом времени», становится органом языка и культуры. Его собеседниками становятся поэты в культурном времени. Как собеседниками Мандельштама были Гомер и Данте. И это не метафора. Пойэтес становится особым культурным героем, выполняющим особую культурную функцию – развитие языка культуры. Но коль скоро он живет в теле, в материнском теле носителя, физическом индивиде, то этот последний мучается, страшится, корчится и изнемогает от этого своего плода. И в итоге умирает, буквально гибнет. Это такой акт мужества, который человек осуществляет, понимая в итоге свою культурную миссию. В этом смысле поэзия, разумеется, есть не просто само по себе писание стихов (внешне это выглядит вроде бы так). Поэзия – оформление метафизики мысли о времени, мысли, претендующей преодолеть время, преодолеть разрывы и разломы времени. Поэзис – мысль о попадании человека в эти разломы и разрывы и стремление преодолеть страх от переживания этих разломов. Для того, чтобы выдержать метафизику разрыва, человеку приходится выращивать в себе поэтический органон с помощью культурных форм-орудий, языковых средств, а также с помощью своей особой органики тела – голоса, дыхания, устройства губ, говорения, работы рта, дикции, манеры чтения, устройства восприятия, видения, работы глаз, своей походки, всей своей телесной организации. Именно антропологию, антропотехнику и антропогенность стиха мы и попробуем нащупать у тех поэтов, которые с моей точки зрения наиболее близко подошли к выполнению этого культурного задания – быть жертвой и жертвователем одновременно и выделывать поэтический органон. Они ближе всех подошли к проблеме автопоэзиса и воплотили этот принцип своей жизнью, своей судьбой. Почти мистический процесс рождения неорганического тела, поэтического органона, воплотился в их бессмертных творениях (которые, кстати, совершенно невозможно делить на поэзию и прозу). Для меня поэт, пойэтес – в высоком античном смысле ваятель, творец мира, творец божественной формы, не важно, как написавший свои стихи: в столбик или в строчку, строфой или верлибром.[3] В таком случае смысл проникновения в поэзис состоит не в том, чтобы пересказать некое содержание стиха (о чем? про что?), которое сводится, например, к некоей идее о том, что, например: «…власть отвратительна, как руки брадобрея…» Есть всеобщее заблуждение, согласно которому считается, что за формой стиха (слова) кроется некое содержание, некая мысль, которую поэт хочет сообщить миру. Или предполагается, что за словом стоит некая реальность, которую поэт описывает, оформляя свою мысль в некую стихотворную форму. Более точным будет сказать, что содержанием поэзиса является метафизический прыжок, рывок, который совершает поэт. А поэзис его является формой его органона, с помощью которого он совершает этот прыжок. И он его всякий раз проделывает, рвется «из всех сухожилий». В этом прыжке есть свои герои-первопроходцы (как Цветаева и Мандельштам). Их прыжки и полеты – головокружительны и запредельны. Иди, поспей за ними! Итак, содержанием поэзиса является не некое описание некоей социальной реальности (как плохо или хорошо живется). Не некая мораль и проповедь (это оставим литераторам, писателям-борзописцам), не некое самоописание своих ощущений и переживаний (как мне больно или наоборот хорошо, – чем увлекался сильно Пастернак, себя любя и жалея и мечтая о Нобеле), а отказ от всякой морали, от всякой социальности и уход в метафизический рывок и оформление этого рывка, феномена, прецедента преображения в процессе этого прыжка, метаморфоза, который переживает поэт-гиеродул, в поэтический органон. И в человеке, физическом носителе, лепится тот самый персонаж, пойэтес, прыгающий и изрыгивающий свои стихи. Это выражено в той или иной степени у всякого поэта (если он поэт, а не пророк и не моралист, не писатель-описатель). У Мандельштама и Цветаевой это получилось настолько ярко и выпукло, настолько в них самих грандиозно и рельефно вылеплена фигура пойэтеса, что их физические носители, едва выдерживавшие эту ношу уже были почти не видны, они были полностью подчинены автопоэзису. Эти культурные герои при жизни стали живым воплощением поэзии. И сама биография становилась житием поэта, мифом, обраставшим сказками и легендами. В таком залоге бессмысленным становится сравнение – что является столпом в культуре, какие культурные практики являются наиболее зиждительными и фундаментальными в становлении человеческого в человеке. Долгое время венцом была наука. Затем, уже в ХХ веке было много голосов, выдвигавших на первые места искусство и религию. Например, о. П.А.Флоренский писал, что «обоснование естество-знательное уже лет через двадцать будет наивно и притязательно, как смешная старомодная шляпа» [30, с. 190]. Для него «естественно-научные положения были слишком мало прочным фундаментом философской антропологии: несравненно надежнее в этом смысле основные инварианты лирики, а тем более – незыблемо прочные символы религии» [там же]. Я же предпочитаю вслед за Мандельштамом говорить не о противопоставлении, а о взаимопроникновении. Высокая поэзия не зачеркивает глубину научного познания, а религиозное откровение не отрицает открытие истины. Для Мандельштама «чтение «Божественной комедии» должно быть обставлено как огромный исполнительный эксперимент. Оно само по себе есть научный опыт» [21, с. 162]. В другом месте он пишет: «Дант может быть понят лишь при помощи теории квант» [там же, с. 156]. Или еще сильнее: «Дант произвел головную разведку для всего нового европейского искусства, главным образом для математики и для музыки» [там же, с. 157]. Или поразительное откровение: «Я позволю себе сказать, что временные глагольные формы изготовлял для десятой песни в Кенигсберге сам Иммануил Кант» [там же, с. 158]. Таких синтетических сравнений у Мандельштама рассыпана масса. Смысл их состоит в том, что автопоэзис личности нельзя разъять на части (как у пушкинского Сальери: «музыку я разъял как труп»). Автопоэзис осуществляется в целом во всем микро и макрокосмосе личности, о чем напомнил М.М.Бахтин в своем гениальном очерке «Искусство и ответственность», написанном в 1919 году в Невеле: «Три области человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству… Что же гарантирует внутреннюю связь элементов личности? Только единство ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг друга в единстве вины и ответственности. И нечего для оправдания безответственности ссылаться на «вдохновение». Вдохновенье, которое игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновенье, а одержание. Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством. Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности» [3, с. 5-6]. После таких слов спорить и сравнивать уже совсем бессмысленно. Надо идти дальше. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-07-2007 22:36 |
|
2. Быть поэтом. Архитектоника ответственности Почему так мало хороших биографий поэтов и философов? И почему они, после того, как написаны и изданы, подвергаются уничтожающей критике со всех сторон? Почему мы не узнаем в них своих любимых героев? Наверное, потому, что и биограф, и мы сами наивно думаем, что человек по имени Александр Пушкин, стрелявшийся с Дантесом, ездивший верхом, дуэлянт, друг декабристов, ходивший по Питеру с тяжелой тростью для упражнения рук и автор «Медного всадника» – одно и то же лицо. Мы приписываем своим представлениям о нем право на истинность. Мы присваиваем этого героя себе и считаем, что наша любовь и наше знание о нем – неизменны и истинны. И начинает биограф собирать материалы, воспоминания, пересказывать, цитировать, выискивать, как было на самом деле, перемежая свои пространные рассуждения цитатами из творений своего героя. Сказал – процитировал. Снова сказал – и снова цитаточка. Вот в этом году у него такие темы и мотивы в его творчестве, а в этом году такие. А вот в этом году он встретил такого-то (такую) и между ними вспыхнуло чувство. И в подтверждение – цитата из стиха. В наборе сведений и цитат совершенно не раскрывается тайна рождения поэта. То есть, собственно, – что пишется? Что создается, что происходит при этом? Где и когда рождается поэт? Как показать это? Что это за событие? В чем, где, как явлено событие поэзиса? Где, как рождается поэт в человеке? Ну, узнали мы о ссылках Мандельштама в Воронеж, в котором он пишет головокружительные стихи. И что? Или узнали, что Осип и Надежда Мандельштамы возвращаются в Москву в 1930 году и он пишет стихи о курве-Москве. И что? А где тайна рождения шедевра «Стихи о неизвестном солдате»? В чем их антропогенность? Или какие такие биографические события могут быть причиной и средством написания таких строчек: Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма… За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда… У метафизического вопрошания нет конкретных причин. Те же самые бытовые условия жизни или страдания не дают гарантий появления умопомрачительных строчек у другого человека и тем более не объясняют их. А если сказать расхожую фразу, что поэт говорит с Богом – значит просто спрятаться за метафору. Но есть кухня поэзии, исток автопоэзиса. Поэт все равно работает, лепит, становясь органом бытия. Он опыт из лепета лепит, И лепет из опыта пьет. Итак, необходимо договориться, что поэт и физическое лицо, носитель этого имени поэта, лицо, жившее и умершее когда-то, – это существа разные. Поэт – концептуальный персонаж, который рождается в человеке и который как раз строится, лепится, меняется, рождается, перерождается и продолжает жить после ухода своего носителя, но уже в культурных формах, текстах, при чтении которых этот персонаж всякий раз возрождается.[4] Как ребенок выходит из материнского лона, уходит в свое плавание, создает свой мир, а мать, его вскормившая, отходит в иной мир. Так и с поэтом. И именно персонаж, поэт, вступает в конфликт с эпохой, со временем, с родителями, друзьями, собратьями по перу. Именно он дает силы, поскольку первое существо боится, оно смертно, оно болеет, таится, томится, бежит. Именно этого поэта, нарождающегося персонажа в физическом теле, не понимают первые (физические) родители, они не узнают в нем своего сына, не понимают друзья (он опережает время, он быстро вырастает из своих привычных рамок, а люди удивляются, что это с ним происходит). Так не понимали Мандельштама и его родители, люди торговые, коммерческие, далекие от поэзии. Так не понимали его другие поэты, не понимал и Пастернак. То же самое происходит и с попытками объяснения – откуда произошел этот гений? Максимум, что можно себе позволить здесь – сказать, что из себя самого.[5] Хотя характерно, что Мандельштам входил именно в домашний, семейный круг поэтов («Цех поэтов», основанный Н.Гумилевым и С.Городецким), но потом быстро выросший и из этой семьи. Эта семья в корне отличалась от круга символистов. «Цех поэтов» был почти приятельским домашним кружком. Каким был и кружок М.М.Бахтина в Невеле и Витебске, в котором за самоваром собирались Бахтин, Пумпянский, Каган и другие. Собирались и вели разговоры о мировой философии и культуре. Так и тут в узком домашнем кругу рождался мировой поэт, не подвластный никаким течениям и «измам». Сам Мандельштам вполне понимал эту культурную миссию поэта – бросать вызов времени, взрыхлять время своим плугом поэзии: «Поэзия – плуг, взрывающий время так, что глубокие слои времени, его чернозем, оказываются наверху» [21, с. 40]. Поэт не живет в этом времени, то есть в привычной обыденной хронологии. Действительно, в каком времени жил Иисус Христос? Он ведь и задал иное, свое время, свой отсчет, свою эру. Мандельштам тоже выбирает свое время: «- Ты в каком времени хочешь жить? - Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном – в “долженствующем быть”» [22, с. 176]. Мандельштам – солдат слова, языка, его служитель и время его – время языковое. И в «Стихах о неизвестном солдате», его завещании, он – неизвестный солдат поэзии, солдат языка, всю жизнь проведший в окопах этой поэзии. Службу, солдатскость имел в виду Иосиф Бродский, говоривший, что Мандельштам всего себя отдал поэзии и обрел такую поэтическую автономию, которая и приводит к культурной изоляции [5]. Искусство для Бродского (и характеристики Мандельштама есть самохарактеристики его самого) – это не лучшее, а альтернативное существование, не попытка избежать реальности, но наоборот, оживить ее, этот дух, ищущий плоть, но находящий слова [там же, с.23]. Тем самым Мандельштам, выстраивая поэтический мир, пребывает в культурном большом времени, оседающем в больших культурных формах поэтического органона. Отсюда – библейские, античные и российские имперские темы в поэтике Мандельштама. Отсюда его собеседники – Гомер Овидий, Данте, Пушкин, Чаадаев. Отсюда его знаменитая фраза: «акмеизм – это тоска по мировой культуре». И.Бродский при этом добавляет, что после ухода символизма наступила словесная инфляция и девальвация, породившая всякого рода имажинизмы, футуризмы, конструктивизмы и т.д. И только Цветаева и Мандельштам создали качественно новое содержание, и судьба их ужасным образом отразила степень их духовной автономии [там же, с. 132]. Как следствие автономии (заметьте – автономии и автопоэзиса, два сопричастных друг другу акта, собственное законодательство и собственное творение) – изоляция. Как только человек создает свой мир, он становится, добавляет Бродский, инородным телом, в которое метят все законы – тяготения, сжатия, отторжения, уничтожения. Мир Мандельштама был достаточно велик, чтобы навлечь на себя их все. Его мир был слишком автономен, чтобы раствориться. И чем дальше, тем стремительнее. Поэзия Мандельштама стала поэзией высокой скорости и оголенных нервов. Что здесь нам важно? Важно именно то, что поэт (а Мандельштам как раз и воплотил на себе, своей судьбе, эту культурную роль, сыграл ее сполна) берет на себя едва ли не самую уникальную роль – творения мира языка. И через это творение языкового мира развивает собственно мир культуры, а за ним развивается и в целом весь мир человеческий. Собственно антропогенность, рождение человеческого в человеке воплощается именно в поэте. Не в богослове и не в философе. Не в ученом, не в методологе.[6] В человеке нужна именно фигура поэта, создающего этот органон. Но именно это достижение языковой самостоятельности и духовной автономии приводит к его, поэта, превосходству над другими, физическими современниками. Это порождает космическое одиночество поэта. Не потому, что поэт такой сильный и мужественный. А потому, что у него такое культурное задание. И Мандельштам это однажды понял. И, страшась и чертыхаясь, принял. А Пастернак не принял, испугался.[7] Песнь есть форма языкового неповиновения, продолжает Бродский. И ее звучание ставит под сомнение много большее, чем конкретную политическую систему: оно колеблет весь жизненный уклад. И число врагов растет пропорционально [5, с. 135]. «Именно интенсивность лиризма поэзии Мандельштама делает его сиротой века. Ибо лиризм есть этика языка. Превосходство этого лиризма над всеми достижимыми … и есть то, что создает произведение искусства и позволяет ему уцелеть…» [там же, с. 135.] Собственно тогда только и возможно говорить о культурной памяти, о культурном душевном бессмертии. Поскольку только такая интенсивность и автономия и позволяют воплотить этот «звучащий слепок формы». Эта поэтическая форма и запоминается, через нее запоминается вообще мир, сами прецеденты культурных творений. Поэтическое произведение есть та последняя инстанция, которая помнится, она остается последним, что «слетит с запекшихся губ», сказал Бродский, сам подтверждающий своей судьбой свои слова. С ним мы тоже побеседуем, но отдельно. В противоположность памяти – беспамятство, без-умие есть обратный процесс умирания, забвения поэта и человека. Неспособность держать культурную форму есть знак умирания, быстрого и скоротечного. Потому Цветаева и ушла из жизни, поскольку сначала из нее ушел поэт. Она перестала писать. Поэзия ушла из нее. И из нее ушел всякий смысл жизни. Тем тяжел и страшен постмодерн – своим беспамятством. Ибо акт памяти – творение формы. Когда она не творится, не держится, а остаются одни цитаты и симулякры, то человек сходит с ума, теряет память, с него слетает поэтическая форма, онтологический костяк-органон, который держит его в культурном времени, на плаву. Именно это подтверждает Надежда Яковлевна Мандельштам [23]. Я нашел сильное созвучье в ее строчках. Она пишет о том, что большинство людей эпоха гнула и ломала. Поэтому многие биографии катастрофичны. Эпоха не формировала личность, а скорее расплющивала ее. Нужна была огромная сила, чтобы несмотря на гнет и удушье, сохранить способность к росту. Это оказалось возможным только для людей, чья личность строилась на формообразующей идее такой мощи, что не внешние события влияли на нее, на рост личности, а отношение человека к внешним событиям. Я не могу, пишет Надежда Яковлевна, назвать того, что строило личность Мандельштама, потому что его основная идея не поддается формулировке. Скорее это отношение к поэзии как к дару свыше, чем к назначению, а также вера в священный характер поэзии. Второго такого человека, который бы все дни находился на линии огня и все же сохранил способность к мысли и к росту, я не видела. На линии огня не выдерживал никто. Люди, способные к духовному росту и труду, были уничтожены почти сразу. Например, это Флоренский (кстати, один из великих собеседников Мандельштама, а книга «Столп и утверждение истины» была настольной книгой Мандельштама).[8] |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-07-2007 22:37 |
|
3. Автопоэзис 3.1. Конститутивные принципы поэтики Мандельштама Теперь попробуем настроиться, собрать и обозначить, как бы застолбить идеи, верстовые столбы, организующие всю поэтику Мандельштама. Тем самым попробуем сами настроиться, настроить свое умозрение, с тем, чтобы потом этим настроенным окуляром пройти по пути строения поэтического органона на конкретном поэтическом материале. Это я делаю по той причине, что есть такое нетерпение сердца у некоторых читателей. Они не нуждаются в комментариях, им подавай сразу сам стих. Открывает он этот стих и что он видит? Кто-то видит (у него культурный орган настроен), а кто-то, кроме метафор, не видит ничего. А кому-то подавай интересные подробности и эпизоды из биографии, подтверждающие тот или иной стихотворный пассаж. Я не буду делать ни того, ни другого. Мне нужно в свете того, что я уже сказал выше, попробовать к культурной глыбе по имени «поэт Мандельштам» подойти бережно, осторожно. Не спешить пересказывать тех или иных литературоведов и стиховедов или биографов, а попытаться подобрать адекватный ключ к его поэтическому органону, чтобы открыть его и услышать его голос, услышать его самого, а не собственные придумки и фантазмы. Поэтому ниже я изложу ряд принципов, организующих поэтику Мандельштама, как следствие моего прочтения всего разного, что есть о нем и его самого, в том числе и его собственные утверждения, которые, отрадно это видеть, очень трезвы, разумны и глубоки. В них Мандельштам показывает себя глубоким философом, адекватно оценивающим и мировую поэзию, и свою роль в ней. При этом он употребляет настолько высокие и точные характеристики, что они не нуждаются в дальнейших научных (которые становятся квазинаучными) объяснениях. Идея, организующая личность Еще в 1915 году Мандельштам написал блестящий очерк о П.Я.Чаадаеве. Он тем более удивителен, что мало кто конгениально понимал русского философа в то время. При этом в 1915 году еще не все письма философа были опубликованы. Они опубликованы полностью только в наше время, в 1989 году. Надежда Яковлевна писала, что поэт, в отличие от литератора, строит, именно строит, а не выбирает свою судьбу. Мандельштам был активным строителем, и я не мешала ему строить себя и быть самим собой. Он строил себя, а заодно и меня [23, с. 159]. Также я уже сказал выше, ссылаясь на Надежду Яковлевну, что именно формообразующая идея двигала его по жизни, выстраивала его личность. Собственно это Мандельштам уже выделил в очерке о Чаадаеве: «Огромная внутренняя дисциплина, высокий интеллектуализм, нравственная архитектоника и холод маски, медали, которыми окружает себя человек, сознавая, что в веках он – только форма и заранее подготавливая слепок для своего бессмертия» [21, с. 87] Абсолютно точно Мандельштам определяет культурное задание Чаадаева, первого русского философа: интеллектуальная самоорганизация российского пространства. Россия, принадлежащая еще целиком к неорганизованному миру, была воспринята Чаадаевым как его удел и судьба. Он сам плоть от плоти был этой России и посмотрел на себя как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру [21, с. 87]. В черновиках поэта сохранился также и такой отрывок: «В младенческой стране, стране полуживой материи и полумертвого духа, седая антиномия косной глыбы и организующей идеи была почти неизвестна» [там же, с. 288]. Эта идея подчинила личность себе без остатка и в награду за абсолютное подчинение подарила ему абсолютную свободу. Онтологизм стиха Мандельштам признавался, что для того, чтобы писать роман, нужны каторга Достоевского и десятины Толстого. А в 20-30 годы было поветрие – все ринулись писать романы. И Пастернак ринулся. Мандельштам избежал этой болезни. Роман Пастернака – погоня за утраченным временем. А Мандельштам писал не рассказы и романы, не очерки и повести, а прозу или поэзию. Других определений он не признавал. Он не жаждал вообще больших форм. Самая большая поэтическая форма – это, пожалуй, «Стихи о неизвестном солдате». «Путешествие в Армению» умещается в 20 страниц. А «Четвертая проза» – в 10. Точнее, самой большой культурной формой был его «Разговор о Данте». Этот шедевр можно считать вообще его поэтическим манифестом. И вообще свои вещи он называл, употребляя музыкальные термины. Ораторией он называл «Стихи о неизвестном солдате». Для него было важнее качество поэтической мысли, миропонимание и мироощущение поэта. Не внешние признаки и многостраничье, а гул времени и отзвук его в поэзисе. Надежда Яковлевна добавляет: «Ведь гармония стихов – лишь сконцентрированная сущность поэтической мысли, а то новое, что приносит поэт, вовсе не рваная строчка, не рифмика, не «классицизм» или футуризм, а познание жизни и смерти, слияние жизненного пути и поэтического труда, игра детей с Отцом и поиски соотношения смерти с ходом исторического времени. Какова личность поэта, таков и поэтический труд» [23, с. 291]. Потому Мандельштам работал скорее голосом. Он ловил поэтический поток голосом, ртом, гортанью. «Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет» – характерный крик в «Четвертой прозе» [22]. Он скорее наговаривал, напевал, музицировал свою поэзию, чем писал. Щегол – его любимый образ, самообраз, часто встречающийся в Воронежских тетрадях. Мой щегол, я голову закину – Поглядим на мир вдвоем: Зимний день, колючий, как мякина, Так ли жестк в зрачке твоем?... С закинутой головой, как щегол, певший свои стихи – образ, который у многих запомнился с тех лет. Ахматова потом писала о первой встрече с ним в 1911 году: «…он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с пылающими глазами и с ресницами в полщеки» [2, с. 152]. Суд над поэзией Сохранился текст записи Мандельштама от 1923 года, который он написал молодому поэту, Л.Горнунгу, очередному подражателю Н.Гумилева. Мандельштам оценивал, что такое акмеизм: «Акмеизм 23 года не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть «лишь совестью» поэзии. Он – суд над поэзией, а не сама поэзия [18, с. 92]. Это принципиальное признание, являющееся следствием принципа организующей идеи (см. выше). Акмеизм, много позже писала Н.Я.Мандельштам, был не чисто литературным, а главным образом мировоззренческим объединением. Поэтическая мысль представляет собой синтез всех слоев личности. Достигается этот синтез благодаря ведущей идее, строящей личность. Если идеи нет, возникает в лучшем случае умелец, «переводчик готовых мыслей», стальной или ситцевый соловей. Оттого Мандельштам не стал ни символистом, ни футуристом, а просто поэтом. Он не формочки искал, не рифмы выстраивал, и тем более никому не служил. Он лепил поэзис человека, попавшего в расщелину времени, в трещину перехода. И никакие футуристы и формалисты не могли склеить это разрыв, не могли ответить на крик Мандельштама: Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит двух столетий позвонки? Надо было быть рефлектирующим поэтом, поэтом над поэзией, быть даже не внутри ее, не просто ее органом, а устраивать ей же самой постоянный кровавый суд, немилосердно себя же при этом истязая, превозмогая все привычные поэтики и традиции, вырастая из этих поэтик. А потому он «никогда ничей не был современник». Его не понимали, его травили, ругали «на языке трамвайных перебранок». Это хуже, чем брань, пишет Надежда Яковлевна [23, с. 18]. Архитектурность стиха Л.Я.Гинзбург писала, что архитектурность раннего Мандельштама следует понимать широко. Он вообще мыслил действительность архитектонически, в виде законченных структур – и это от бытовых явлений до больших фактов культуры [13, с. 249-250]. Принцип архитектурности становился программной позицией Мандельштама в целом как поэта. Борьба с хаосом, бесформенностью, преодоление его порядком стиха, стойхейоном-словом в поэзии, построение архитектуры стиха вплоть до названия первого сборника «Камень» – таково его отношение вообще к творчеству. Стих, слово, речь как и античные стойхейоны, выстраивались в алфавит космического мироустройства. Это сугубо культурное занятие и задание, идущее еще от первых античных поэтов и философов, воспринимавших построение своих языковых структур как порождение из хаоса – космоса, с тех пор, как алфавит понимался аналогом космоса, а буквы – части, частицы этого космоса, его первоэлементы, первостихии. Но ведь понятно, что архитектурность стиха у Мандельштама и есть следствие его первых принципов – идеи, организующей личность и онтологизма стиха. И разбивать его поэтику на три поэтики, как делает М.Л.Гаспаров, можно лишь с точки зрения узко стиховедческого анализа. Он выделяет архитектурность как первую поэтику Мандельштама. Это период «Камня», период акмеистов, Цеха поэтов. Поэт понимается как вольный каменщик, строит здание поэзии камень за камнем. Слово как камень. Основательность и фундаментальность, вхождение в культуру, архитектурность стиха. О поэтиках Мандельштама мы поговорим ниже, а здесь отметим, что деление поэзии Мандельштама на три поэтики, три периода весьма искусственно. Достаточно посмотреть его собственные работы, как станет ясно, что, например, архитектурность он всегда держал как принцип. В «Разговоре о Данте» у него постоянно встречаются архитектурные и строительные метафоры. Например: «Вся поэма (Divina Commedia) представляет собой одну, единственную, единую и недробимую строфу. Вернее, не строфу, а кристаллическую фигуру, то есть тело. Поэму насквозь пронзает безостановочная, формообразующая тяга. Она есть строжайшее стереометрическое тело, одно сплошное развитие кристаллографической темы» [21, с. 120]. Камень, кристалл, тысячегранник – таковые формы в Божественной комедии, и собственно формы поэзии. «Камень – как бы дневник погоды, метеорологический сгусток. Камень не что иное как сама погода.. Импрессионистический дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий; но он не только. Он и будущее: в нем есть периодичность. Он алладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен» [там же, с. 148]. Камень – не галька, не скальный валун. Мандельштам, опираясь на опыт Данте, а точнее на свой опыт понимания Данте, ведет с ним разговор в Крыму, выхаживая этот разговор, идя по берегу, беседуя, советуясь с каменистым берегом. Камень – такой же собеседник, омытый и обветренный ветрами и временем, на котором зафиксирована запись веков и событий. Так и его стихи – это живые камни событий, стенограмма культуры, точнее ее кардиограмма, потому слово – хлеб и плоть, с ними она роднится одним – страданием. Поэзия Мандельштама – отшлифованная временем форма языка, которая в «порывообразовании», исполнительском порыве (как он говорит о Данте), остается в виде «каллиграфического продукта» [там же, с. 151]. Ведя разговор с Данте, Мандельштам оттачивает свой камень слова. Он его оттачивает на своем точильном инструменте, своем языке, своей речью, своей гортанью проверяя звуки и смыслы, вышагивая фразы и предложения. Он ведь именно диктовал «Разговор о Данте» своей жене Надежде Яковлевне. Он наговаривал текст, он действительно вел разговор. Надежда Яковлевна при этом вспоминала: «Записывая под диктовку «Разговор о Дане, я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного и говорила: это ты уже свои счеты сводишь» – он отвечал: Так и надо. Не мешай» [23] |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-07-2007 22:38 |
|
Провиденциальный собеседник Мандельштам беседовал не со своими современниками, а с дальними. Это была его сознательная позиция. Писатель (то есть литератор) всегда обращается, писал Мандельштам, к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Даже если он пророчествует, он имеет в виду современника будущего. Литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение – нерв литературы. Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело – поэзия. Поэт связан с «провиденциальным собеседником» [21, с. 52]. Этим объясняется то, что поэт общается, вступает в диалог в большом времени с дальними собеседниками, как Мандельштам общался с Данте. Если я знаю того, с кем говорю, писал он, я знаю наперед, как он отнесется к тому, что я скажу. Что бы я ни сказал, мне не удастся изумиться его изумленью. Вкус сообщительности обратно пропорционален реальному знанию о собеседнике. Поэзия как целое направлена всегда к неизвестному адресату [21, с. 53-54]. Это очень созвучно идеям Бахтина. Дальний, тайный, неизвестный, провиденциальный собеседник – тот самый Другой в культуре, который только и может вступить со мной в диалог. Здесь и теперешний встречный никак тебя не поймет, а лишь начнет оценивать, узнавать, хвалить или бранить, но никак не понимать. Наверное, это является следствием того, что Мандельштам в принципе не мог встретить собеседника, равного ему. Надежда Яковлевна писала, что в этом реальном времени у него не было собеседника, равного ему, чтобы была встреча и перекличка. Шкловский, Тынянов, Гуковский, Эйхенбаум, цвет литературоведения двадцатых годов, о чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в своих книгах, а на живую речь не реагировали. Большинство людей, с которыми мы сталкивались, бурно самоутверждались [23].[9] А Мандельштам искал живого собеседника, он хотел найти полновесную мысль, но это исключалось. Была лишь, пожалуй, Ахматова, равная ему. И была Цветаева, живущая в эмиграции. И были еще одиночки типа Флоренского, Бахтина, Выготского. И каждый с каждым так и не встретился. Выготского по иронии судьбы Бахтин считал бихевиористом. Бахтина по иронии тоже записывали в маргиналы и чуть ли не в формалисты. Да и рукописи его никто не читал. А «Трагедию о Гамлете» Выготского опубликовали только в 1968, ее даже его ученики не читали. То же самое случилось с «Антроподицеей» Флоренского, его циклом работ по «Философии культа». То есть крупнейшие фигуры, определившие культурный горизонт на ближайшее столетие и ныне ставшие образцами, онтологическими вехами, тогда в 20-х годах друг с другом не встретились, а гибли по одиночке. Встретились они уже в провиденциальном времени и пространстве, как провиденциальные собеседники. 3.2. Опыт поэтической антропологии Психолог В.П.Зинченко одним из первых ввел словосочетание – поэтическая антропология [15; 16]. Насколько осознанно? Насколько обдуманно? Прилагательных к антропологии возникло множество. Антропология размножается ныне вегетативным способом. Понятно ли стало, что такое поэтическая антропология? В.П.Зинченко прав, считая, что весьма полезно советоваться с поэтами. Они могут очень многое сказать о человеке. Но в итоге у Зинченко поэзия, то есть именно стихи, стали чем-то вроде набора цитат. К ним можно обращаться и спрашивать, что тот или иной поэт сказал о смысле жизни, красоте, добре и зле. В целом к этому сводится и идея Зинченко. Его книжка о Мандельштаме полна поэтических цитат. Но это ровным счетом никакого отношения не имеет к тайне появления поэзиса, генезису собственно поэтического органона как культурной формы. Гораздо ближе к задаче выяснение тайны поэзиса подошла Ольга Седакова, тонкий исследователь и переводчик [24]. Она показала, как мне кажется, первый опыт такого адекватного понимания природы и генезиса стиха, причем, на примере О.Мандельштама. Она попыталась показать поэзию как антропологическую практику, практику «узнавания себя», узнавания себя как забвения, преодоления в себе слишком человеческого. Поэзия, пишет О.Седакова, начинается не с троп и фигур, и не с мифологических образов и архетипов, которые она, поэзия, использует как материал. Поэтическая антропология построена на основании переживания формы как глубочайшая человеческая активность. Чем переживается поэтическая форма? Не эмоциями, не разумом. Именно «потребность в форме, способность к форме, наслаждение формой и мучение от бесформенности» ставит вопрос о составе человека, может быть даже его соматическом составе, о каком-то своего рода «органе», воспринимающем форму так же непосредственно, как звук, цвет, тепло» [там же]. Наше почти текстуальное совпадение с Седаковой не облегчает задачу. Но помогает сориентироваться далее. Итак, со времен античности онтологическая жажда формы, тяга преодоления хаоса бесформенности, и есть суть творения мира, генезис человека, проявленного в поэзисе. Фраза, что поэзис суть практика рождения мира – не метафора, а существо происхождения антропологического. Поэзия поставляет не метафоры и тропы, а показывает саму кухню творения митра, само нутро его происхождения. Причем на языке антропологическом, на языке состава человека, его органики, культурной органики. Седакова продолжает: впечатление о нечеловеческом творении, о гениальности поэтической формы нам говорит как раз о норме антропологического в поэзии. Поэтическую форму создает не человек, занимающийся повседневными заботами. Или ее не он сам создал. Через него говорит сам Бог. Про это я уже говорил выше. За метафору Бога мы всякий раз прячемся, если не находим содержательных контентов и смыслов. Но идея в общем понятна. Нечеловеческое творение создает именно человек, то есть его культурное произведение, тот самый концептуальный персонаж – поэт. Точнее, создается некий сверхчеловек, который не ухватывается слишком человеческими средствами, привычками, бытом, опытом. Поэтическая, культурная органика находится за пределом досягаемости слишком человеческого опыта. Поэзис – занятие слишком нечеловеческое, потому оно и не подпадает под эмоциональные и бытовые категории и определения. И никакие биографии и эпизоды жизни не объясняют феномен рождения формы, ее переживания и исступления ею. В поэзии ощущается чистое присутствие формы и антропология формы. Поэтическая форма пребывает явно в поэзисе Мандельштама, в частности во «Флейте», утверждает Седакова. Добавим: в «Неизвестном солдате», «Веке», «Сохрани мою речь…», Воронежских тетрадях. Седакова пишет: поэзия Мандельштама рождается на разрывах. Каждая его вещь рождается из ничего, не из готового тезауруса, а вопреки ему, из ничего, из полной безнадежности своего появления. Слова Седаковой звучат в диссонанс со словами, скажем, Гаспарова, который все выискивал, как и многие другие, истоки поэтики Мандельштама. Искал ассоциации, отзвуки. Вот у него – отголосок от Цветаевой, вот – от Гумилева. Но эти отголоски, даже если они и есть (как писал давно Лотман, стихи поэт пишет для друзей и в его стихах эти друзья и отражаются), не объясняют саму органику стиха, тайну его рождения, исток его лепки. Мало ли какие были поводы и намеки для их написания. Стихи Мандельштама – про феномен чудесного появления поэтической формы вопреки всему, как удар молнии. Это образец разыгранного в фонетической и артикуляционной плоти вдохновения, рождение формы. И я бы добавил: и несение ее, этой формы, в себе, на себе. На нем сидела эта явная и явленная форма. На «Флейте» это видно. Седакова в качестве примера взяла именно это творение. Там строчки говорят про работу сугубо антропологическую. Топот губ, подражающий игре на флейте, повторяет идею флейты – искусства, которой только и можно связать разорванное время. Топот губ слышится как подражание игре на флейте, повторение положения губ флейтиста, который суть метафорическая фигура поэта. Звонким шепотом честолюбивых, Вспоминающих шепотом губ Он торопится быть бережливым, Емлет звуки – опрятен и скуп… Кстати, в черновиках в первом стихе приведенного катрена – другой вариант: Звонким шепотом честолюбивым… Второй стих имеет также другой вариант: Понимающих топотом губ… Именно топот был как вариант у Мандельштама. Но что играется? Какая музыка? Музыка возврата к началу, к Элладе, к греческой «тэте и йоте». К тому архаическому, глубинному началу, к Архэ, к алфавиту, начальному периоду Греции, когда все только начиналось. Начинались первые философы, начинался алфавит, начиналось рождение мира, первое творение мира, собственно первый феномен поэзиса, то есть творения мира из ничего, силой креативности. Бормотанье губ, их топот, сопровождается лепкой из глины моря. Вслед за ним мы его не повторим, Комья глины в ладонях моря, И когда я наполнился морем – Мором стала мне мера моя… Человеческое Я уничтожается – «мором стала мне мера моя». Море слеплено и Я утонуло в нем. Мера всех вещей, мера человеческая, становится мором, гибелью смертного начала и уходом в бессмертную форму. Человек воплощается в слепленную форму и его бренное тело растворяется в бессмертной форме, плавится. Человек с его плотью – глина в руках божественной поэтической энергии.[10] И свои-то мне губы не любы – И убийство на том же корню – И невольно на убыль, на убыль Равноденствие флейты клоню… В черновиках вместо «равноденствие» есть другое – равнодействие. Седакова продолжает. В отличие от религиозного мистического опыта – поэтический, сугубо антропологический опыт лепки формы показывает, являет этот опыт. Поэтическое произведение непосредственно разыгрывает предельный метафизический опыт. Само существо художественной вещи как событие формы – исполняется, как исполняется музыкантом пьеса на скрипке. Событие формы и есть антропологическое осуществление человека у предела его меры. А мера становится мором при вспышке формы. 3.3. Становление поэтического органона М.Л.Гаспаров выстраивает поэтики Мандельштама соответственно его становлению как поэта, которое шло по логике Гаспарова параллельно биографии поэта [9]. Первая поэтика соответствует периоду сборника «Камень». Это период Цеха поэтов. Начало. Утро акмеизма. Поэт понимается как вольный каменщик, строит здание поэзии и культуры, слово за словом, камень за камнем. Основательность, фундаментальность. Строим надолго, на века, приобщаясь к мировой культуре. Отсюда и архитектурность стиха, архитектурность метафор. Вторая поэтика – период сборника «Tristia». Поэтика ассоциаций, свободного поиска звуков и песен. Мандельштам пишет: любое слово является пучком и смысл из него торчит в разные стороны. Живое слово – Психея, оно не обозначает предмет, а свободно выбирает как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело» [21, с. 42]. Эта поэтика обосновывается в серии статей 1921-22 годов, которые сами по себе являются великолепными поэтическими очерками-эссе, самостоятельными произведениями. Эта вторая поэтика воплощается в музыке без слов, в зауми, «звучащем слепке формы», в глоссолалии. Ему близок здесь Хлебников. Стихотворение «Век» (1922), считает Гаспаров, подводит черту под вторую поэтику. Затем происходит переход к третьей поэтике, поэтике разрыва. Наступает период «Грифельной оды», «1 января 12924» , прозы 1924-28 годов. В третью поэтику Гаспаров включает также и то, что Мандельштам создал в 30-х годах. Думаю, что есть и четвертая поэтика. Если третью поэтику я бы назвал поэтикой перехода, то четвертую поэтику я бы назвал поэтикой разрыва. Четвертая поэтика воплощена в манифесте всего Мандельштама – «Разговоре о Данте». В третьей поэтике (если идти вслед за Гаспаровым) Мандельштам начинает порывать с этим миром, с миром социальности, с миром «курвы-Москвы», и он уходит в сильный культурный отрыв, окончательно выбирая себе в собеседники Данте и других дальних, провиденциальных собеседников. В четвертой поэтике он – по ту сторону. Он переживает ницшевский разрыв: отказ от всех и всяческих ценностей, их коренной пересмотр. Отрыв, отказ воплощается в таких шедеврах, как: «За гремучую доблесть грядущих веков…, «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма», «Флейты греческой тэта и йота», в «Стихах о неизвестном солдате», в «Четвертой прозе», карикатуре «Мы живем под собою не чуя страны…» Он пишет Надежде Яковлевне: «разрыв – это богатство. Надо его сохранить. Не расплескать». Здесь и воплощается его вопрос о времени: ты в каком времени хочешь жить? Он выбирает время метафизическое, «время страдательное» и «долженствующее быть». Он выходит за пределы посюстороннего времени, тем самым как раз попадая в действительное время, то есть в бытие, поскольку поэзис и есть структурированное время, форма времени, ухватывающая его в своей ритмике и метрике. И этот ритм и метр оказался непосилен его физическим соплеменникам.[11] В Воронеже и вообще в 30-е годы он уже не просто живет, существует, работает в провинциальном театре завлитом, ездит, говорит, с кем-то встречается, лечит свою астму. Он – по ту сторону. Он общается в том, потустороннем мире. Здесь звенит чистая экзистенция. Природный и социальный фон – лишь антураж. Одежды для чистого чувства сняты до предела и разрыва. Он на пределе. Он один на один борется со своим черным человеком, который заставляет его описать Оду Сталину (1935). Но тут же его карикатура «Мы живем, под собою не чуя страны…», направленная лично против вождя. И тут же – его «Флейта», его Стихи о неизвестном солдате. Его статьи «Выпад», «О собеседнике», его «Разговор о Данте» – этот манифест четвертой поэтики. И в итоге его фраза: «Я к смерти готов», которую он сказал Ахматовой. На самом деле поэтик у него было много, точнее поисков много, а поэтика одна, в смысле автопоэзиса. С точки зрения построения в течение жизни своего поэта-героя была одна поэтика, базирующаяся на выше названных принципах и идеях. И главная из них – антропогенность поэзиса, постоянное снятие кожи и постоянное перерождение и метаморфоз автора, и постоянное выделывание своей новой поэтической телесности. Ведь язык не живет сам по себе. Он живет на живых носителях. Главные носители языка, его органы-моторы – поэты, поскольку они главные его строители, ниспровергатели, проверяльщики и проблематизаторы. Главные горлопаны, крикуны, певцы и глашатаи. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-07-2007 22:39 |
|
Поэтический органон Духовный учитель многих французских интеллектуалов, гений театра Антонен Арто писал в свое время о практике работы актера и называл ее «душевным или чувственным атлетизмом». Он писал, что культура должна стать для нас «чем-то вроде нового органа или второго дыхания» [1, с. 98]. Вообще надо вслед за А.Арто согласиться с его утверждением, согласно которому театр является наиболее полным воплощением идеи второго рождения, означающего не что иное, как строительство личности. Личность актера буквально лепится, формуется через практику работы в театре, на его теле, ибо тело актера – его главный инструмент. Актер лепит личность на самом себе, без посредников, в отличие от писателя, художника, архитектора. Носителем формы выступает сам актер, живой человек, субъект культурного акта. Он лепит свой культурный орган и обретает второе дыхание не абстрактно и не умозрительно, а телесно, самим собой, преодолевая себя, сжигая свое смертное первое тело, преодолевая свою телесную и психическую индивидуальность, всякий раз перевоплощаясь, переживая метаморфоз своей персоны. Рисуя в воздухе жесты, вырабатывая всякий раз новую походку, он вырабатывает средства, которые на него садятся вторым телом. Жест личности, бесплотный и прозрачный, затем оживляется и твердеет на теле актера, тем самым формуется и организует тело личности актера. Не слово является главным средством, а жест, мимика, язык тела, жест-знак, иероглиф. Само тело есть жест-иероглиф, актер его рисует в пространстве. А слово становится клятвой, заклинанием в ритуале священнодействия, тайны второго рождения. Не случайно Ж.Делез, Ф.Гваттари, М.Фуко учились у А.Арто многим идеям, в том числе и тому, что режиссура и метафизика имеют один культурный этимон. Именно театр, то есть по сути сцена, открытое сценическое действие заставляют язык выражать на сцене то, чего он обычно не выражает. Театр ставит его на предел возможного, заставляет человека потрясаться физически. Театр причиняет человеку реальную боль, тем самым возвращает его в действительность, освобождая от грез и иллюзий современной цивилизации (см. его идеи театра жестокости, театра абсурда). Возвращаясь к Мандельштаму, отметим, что для Арто настоящая поэзия выступает как метафизика, поскольку в ней высвобождаются предельные поэтические потенции. Актер для Арто – существо, которое на себе выделывает новое искусство душевного атлетизма (или «чувственного атлетизма»), который наращивает новую культурную органику средствами актерского тренинга. Актер имеет нечто вроде чувственной мускулатуры. Актер – это «атлет сердца». Также и философ занимается философским атлетизмом, наращивая средствами метафизического размышления новое культурное тело (я писал об этом в [27]). Фактически Арто говорил о теле души, ее органах. Душа пластична и тоже имеет свои опоры в органах. Собственно это я и пытаюсь сказать на примере поэтики Мандельштама, который строил метафизику стиха сугубо человеческими средствами, то есть писал стихи своим телом. И части тела остаются в стихе как отметины, как вмятины, как ушибы и синяки, которые тело получает от сшибки с метафизическим ударом времени. Холодок щекочет темя, И нельзя признаться вдруг – И меня срезает время, Как скосило твой каблук Темя, слабое, незащищенное место, можно увидеть, лишь взглянув через зеркало в зеркало. Ты встаешь спиной к зеркалу, берешь в руки другое зеркало и смотришь в него. И в него с трудом улавливаешь свое темя. В темя тебя целует мать, когда-то давно в детстве. В темя ты целуешь своего ребенка. В темя целуешь своего любимого человека. Целуешь, переживая нежность и любовь. Дрожа телом от недостатка, неполноты и одновременно от переизбытка желаний. Исхитрившись, ты видишь свое темя. Голову «стареющего сына». Также ты с трудом, но через двойное зеркало, кривое, даже не отображение, а искаженный, преломленный образ, ломкий, кривой скол этого времени – ты можешь увидеть и образ своей жизни. Увидеть – и ужаснуться. Тема «темени» встречается постоянно у Мандельштама. В знаменитом «Веке» темя – слабое место века, уходящего, стареющего времени. Сложно нежный хрящ ребенка Век младенческий земли, Снова в жертву как ягненка, Темя жизни принесли… Уязвимость человека (пушинка бытия Паскаля), с одной стороны, и окаянство вызова, готовность быть «неизвестным солдатом» (не слугой!) времени, держа век в кулаке И в кулак зажимая истертый Год рожденья, с гурьбой и гуртом… Мандельштам-поэт понимает, до чего доводит его эта его песня, до чего доводит его поэзис. Темя – твой дальний северный полюс. И именно его неумолимое время срезает как каблук. Истоптанный, срезанный каблук, изношенный временем. И ты как каблук, истоптанный и срезанный. И тебя срезают. Потому что поэзия даром не проходит. За «шевеленье этих губ» приходится отвечать. Видно, даром не проходит Шевеленье этих губ, И вершина колобродит, Обреченная на сруб. Поэт понимает, что он обречен на сруб, но только это и спасает – только песнь и держит поэта в этой жизни. Поэт будет жить, пока с его шевелящихся, запекшихся губ срывается слово. Как только поэзис в нем замолкает – поэт гибнет. Так случилось и с Цветаевой.[12] Речь идет не просто, скажем, о той же архитектурности поэзиса Мандельштама, как любят говорить стиховеды и стихолюбы, разбирая принципы эстетики и поэтики поэта. Речь идет о том, что поэтические формы становятся теми стойхейонами, из которых лепится и строится культурный каркас, поэтический органон, крепь личности поэта, имеющая свою архитектонику и которая становится формой спасения и выживания и порождения культурных миров, противостоящих уничтожающей силе времени. Этот же каркас и крепит, закрывает бреши и дыры, зияющие между временем. Они закрывают от тоталитарного бульдозера. Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки? Кровь-строительница хлещет Горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет На пороге новых дней. Больной век, уходящее время, как человек, как больной пес, не могущий ходить. Раны века, стареющего волка, можно завязать только поэзией. Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый день начать, Узловатых дней колена Нужно флейтою связать. При чтении этих стихов возникает странное чувство. Век – брошенный, одинокий, уходящий, больной. Бродяга-волк. Но именно кровь поэта склеит разлом времени, костяной перелом, только он «своею кровью склеит двух столетий позвонки». Метафора хребта, хряща, позвоночника постоянно повторяется. «двух столетий позвонки» «захребетник лишь трепещет» «хребет» «позвоночник» «нежный хрящ ребенка». В стихах прогладывает антропология века, буквальная телесность, причем, больная, больничная. Ощущаешь себя в больничной палате хирургического отделения, где – кровь, стоны, костыли, слышишь чуть ли не хруст костей. И пронзительную боль. Или как будто присутствуешь на жертвоприношении или на хирургической операции. И поэт как верховный жрец, гиеродул, или хирург, приносит в жертву уходящий век. Словно нежный хрящ ребенка Век младенческий земли. Снова в жертву как ягненка, Темя жизни принесли. В то же время болезнь не излечима. Зверь умирает на твоих руках. Лижет тебе руки и издыхает. И еще набухнут почки, Брызнет зелени побег, Но разбит твой позвоночник, Мой прекрасный жалкий век! И с бессмысленной улыбкой Вспять глядишь, жесток и слаб, Словно зверь, когда-то гибкий, На следы своих же лап. Поэт пытается залатать раны века, сопрячь смертельный разрыв, но надежд очень мало, силы уходят. И это век-зверь, гибнет. Выдержит ли флейта-поэзия такую нагрузку? Удержит ли она смертельный ушиб, разрыв? Какие нужны силы поэту, чтобы она не лопнула? Грамматика тут отсутствует, как говорил Бродский вообще о поэзии Мандельштама. Что за хрящ морей? Что за «высокая сетка птичья»? За пронзительными метафорами ничего не стоит. Никакая реальность не проглядывает. Нельзя увидеть то, что здесь написано. Это не описание морского пейзажа. Это выражение метафизической тоски за «смертельный ушиб», пение, высокое пение смертельной песни, реквиема по веку. Кровь-строительница хлещет Горлом из земных вещей И горящей рыбой мещет В берег теплый хрящ морей. И с высокой сетки птичьей, От лазурных влажных глыб Льется, льется безразличье На смертельный твой ушиб. Вообще-то Мандельштам давно понял, что ушел тот век. Не просто век 19-й. Ушел век корней, век, питающий поэзию. То есть уходят сами корни. Уходит время понимания, что поэзис входит в состав, крепящий время и культуру. Время расцвета поэзии, время серебряного века, время третьего ренессанса прошло. И приходит «октябрьский временщик». Уходит вообще культура. Уходит надежда на возрождение, на повторение античности. Третье русское возрождение тоже заканчивается. А античные образцы и образы, вошедшие в сборник «Камень» в качестве крепей и оснований, превращаются в глину. И как жить? Выбросить флейту? Спрятать ее в чулан? Уехать с флейтой за границу, как это сделали многие? Или выступать на съездах писателей, писать брошюрки и стишки во славу советского строя и строителей (зеков) Беломорканала? Мандельштам идет от камня в «Камне» к проблеме времени, более неустойчивой и всесильной субстанции. Он бросает вызов времени, противостоит ему. И с помощью метафизики флейты противостоит вызовам «в поисках утраченного времени». Антропологический архитектонический каркас прямо сквозит в стихах «1 января 1924». Кто время целовал в измученное темя – С сыновней нежностью потом Он будет вспоминать, как спать ложилось время В сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки – Два сонных яблока больших, – Он слышит вечно шум, когда взревели реки Времен обманных и глухих… Здесь поэт-Мандельштам – у постели больного. Как сын у постели умирающего отца. Век болен, умирает. Он был велик и могуч. А теперь слаб и немощен. Камень превратился в глину, в рыхлый сыпучий материал. И век – не каменный, а глиняный. Два сонных яблока у века-властелина И глиняный прекрасный рот, Но к млеющей руке стареющего сына Он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох, Еще немного – оборвут Простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют. О глиняная жизнь! О умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, В ком беспомóщная улыбка человека, Кто потерял себя. Задача поэта теперь – не строить каменные здания, не оттачивать камень, а поднимать глиняные веки. Какая боль – искать потерянное слово, Больные веки поднимать И с известью в крови, для племени чужого Ночные травы собирать. И «известь в крови». Стеноз нарастает. Смерть близка. У поэта страшная, тяжелая задача – поднимать веки стареющему веку, сидеть у его постели и видеть, как он умирает. Быть свидетелем ухода эпохи, смерти века. Вести кардиограмму, писать историю болезни века и фиксировать его смерть. И не стреляться при этом, не вопить от боли и жалости к себе, любимому (как это сделал Маяковский в 1930 году), не стараться быть лояльным к власти (как это в итоге сделал Пастернак), не уходить, не уезжать (как это сделала Цветаева, во многом, правда, жертвуя собой и идя за мужем, обрекая себя на еще большее одиночество), а стиснув зубы, свидетельствовать о смерти и держаться. Петь свою песнь. И кто знает – может быть: … известковый слой в крови больного сына растает, и блаженный брызнет смех… Но пишущих машин простая сонатина – Лишь тень сонат могучих тех. Пока новая тема поэзиса, новое слово только нарождается, она лишь тень «сонат могучих тех». И тот век ушел. И новый не наступил. И сам Мандельштам был не ко времени. И сам только нарождал в себе могучий поэзис, который окреп в 30-х годах. Собственно переход от старой поэзии к новой, зиждительной, строительной, но уже не на античных ученических истоках, а на своих ногах, рождается в «Грифельной оде». Звезда с звездой – могучий стык, Кремнистый путь из старой песни, Кремня и воздуха язык, Кремень с водой, с подковой перстень, Старый камень старой поэзии превратился в глину, грифель, рыхлый материал. На нем не построить новое слово, не обрести его. Теперь – воздух языка, то, что не каменеет, но что дает новую жизнь. Появляется стих о рождении новой поэзии, о состоянии обременения словом. Поэт, беременный словом, новой речью, вот-вот родит, как рождается все в природе. Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг Свинцовой палочкой молочной, Здесь созревает черновик Учеников воды проточной. Вместо камня и кремния, через грифель и глину – к воздуху и огню. Смотрите, какие стихии у поэта. Вместо поиска чего-то каменного и казалось бы прочного – поиск иного неумолимого, но более стойкого к изменениям стойхейона. Не камень, а огонь и воздух. Точнее, хотя стихи и пишутся грифелем, но их легко стереть, поскольку это хотя и страшно, но осмысленно – остается воздух, остается звук, остается обретенное слово-дыхание. С иконоборческой доски Стереть дневные впечатленья И, как птенца, стряхнуть с руки Уже прозрачные виденья! Поэт теперь – не строитель, как ранее в период «Камня», не архитектор. Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик – Двурушник я, с двойной душой, Я ночи друг, я дня застрельщик. И я теперь учу дневник Царапин грифельного лета, Кремня и воздуха язык, С прослойкой тьмы, с прослойкой света, От поэзиса остаются царапины на грифельной доске, реки, водяные следы, которые быстро сотрутся. А потом снова. Остаются взмахи, звуки, водяные ручьи слова, летящие и текущие и пытающиеся старую болезнь старого века залить-заживить свежим ветром, новой живительной влагой. И я хочу вложить персты В кремнистый путь из старой песни, Как в язву, заключаю встык – Кремень с водой, с подковой перстень. Именно в эти годы написания «Грифельной оды», «Века», «1 января», в 1922-24 г.г. намечается серьезный антропологический поворот, надлом поэта и отказ от песнопений времени, от соловьиных трелей серебряного века, с одной стороны, и от омерзительного словоблудия советской эпохи, с другой. Тот Мандельштам того времени умер. В нем рождается новый Мандельштам, которого все перестают понимать. Новый поэт, переходящий от камня через ассоциации и глоссолалии – к собственно автопоэзису, то есть самолепке и самостроительству – с тем, чтобы принять вызов времени и предъявить ему свой мир, сугубо поэтический, мир поэтического органона. Не мир писать, не свидетельствовать, как все погибает, не писать о смерти старого мира и появлении ублюдочного советского строя, а переживать надлом, разлом времени, поднявшись, что есть мочи (мощи) на цыпочки, рискуя, что тебя срежет рычащее время как тот самый каблук, и что есть силы крикнуть дальнему собеседнику, метафизическому читателю. Для силы крика надо набраться окаянства и бросить вызов новому веку, веку-волкодаву. Старый век-волк умер. Старая флейта разлетелась на куски. Связки порвались. Лопнули канаты-узы. И вместо старого умирающего волка появляется новый век со звериным оскалом, бросающийся на плечи поэту. На него придется выходить один на один, как входят к зверю в клетку (как у Бродского), или как выходят в лес на голодного зверя и набрав воздуха крикнуть: … Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет. Мы слышим поразительный ритм, мандельштамовский четырехстопный анапест, которым написаны самые великие его вещи. За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей – Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век-волкодав, Но не волк я по крови своей – Запихай меня лучше, как шапку в рукав Жаркой шубы сибирских степей… Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, Ни кровавых костей в колесе; Чтоб сияли всю ночь голубые песцы Мне в своей первобытной красе, – Уведи меня в ночь, где течет Енисей И сосна до звезды достает, Потому что не волк я по крови своей И меня только равный убьет. Поразительные, заоблачные строки, от которых прерывается дыхание и кружится голова. От которых идут мурашки по телу. Дрожат пальцы. И лихорадочно перебирают и ломают ручку, мнут бумагу. Ты не можешь собраться. Комок подступает к горлу. И ничего не можешь поделать. И нечем писать. И нечего писать. Ты замолкаешь. Немеешь. Слышишь одновременно крик силы и мужества – и вопль отчаянья. На него бросается век-волкодав. И выбора иного уже нет. Идет смертельная схватка. И страшно. И больно. И неотвратимо. На дворе – уже 1931-й. Выбор сделан. После пятилетнего перерыва в написании стихов появляется новый Мандельштам. Поэт огромного мужества, который уже общается действительно с иным временем. И он готов сразиться с любым противником. Ему и страшно, и смешно, и больно одновременно. Больной Мандельштам, этот «седеющий патриарх»[13], с больным сердцем, который с одной стороны пишет во всякие инстанции, к этим собратьям-борзописцам, пишет письма о помощи, что ему негде жить, негде работать. Он мыкается и мается по городам и весям, его болтает то туда, то сюда. Но не спрятаться мне от великой муры За извозчичью спину Москвы. Я трамвайная вишенка страшной поры Я не знаю, зачем я живу. Но тут же – строчки великого мужества – стихи против личности Сталина. В том же, 1931 году. Поразительно, что они написаны тем же ритмом, анапестом, что написаны и «За гремучую доблесть грядущих веков». Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, А где хватит на полразговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, И слова, как пудовые гири, верны, Тараканьи смеются усища И сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет, Как подкову, дарит за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него – то малина, И широкая грудь осетина. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 03-07-2007 22:48 |
|
<<Муха>>: Иосиф Бродский и Николай Олейников При рассмотрении поэтики Иосифа Бродского, наиболее распространено мнение, что он наследует акмеистической линии русской поэзии (см., например, 1). Несмотря на свою определенную беспорность, эта точка зрения несколько сужает спектр тех влияний, которые испытал на себе Бродский — <<Я вообще ценю все традиции русской поэзии>> 2. Отметим, что неоднократно отмечались черты поэтики Бродского, роднящие его с русскими футуристами (наиболее подробно см. 3). В настоящей работе нам хотелось бы обратить внимание на некоторые переклички, возникающие у Бродского с поэтами следующего, постфутуристического, поколения. Понимая, что сама по себе эта тема достаточно велика, мы ограничимся рассмотрением одного мотивного пучка, приобретающего особо важное значение в поздней поэзии Бродского и непосредственно связанного с поэзией Олейникова и Заболоцкого. Я имею в виду мотивный пучок насекомых, включающий в себя мотивы мух, пчел, комаров, бабочек, а также несколько других, менее разработанных. Как известно, Бродским в разные годы написаны три стихотворения, посвященные насекомым: <<Зимним вечером на сеновале>> (1965), <<Бабочка>> (1972) и <<Муха>> (У.163 — 172). Одно из них (<<Бабочка>>) даже было объектом анализа, проведенного М. Крепсом в работе 4. Упоминания этих стихотворений содержаться в различных работах, посвященных Бродскому (например, см. ниже цитату из статьи 5), однако ранее никогда еще не предпринималась попытка комплексно охватить все мотивы, связанные в поэзии Бродского с насекомыми. Поэтому в данном случае мне представляется целесообразным не отталкиваться от того или иного стихотворения, а сразу перейти к анализу мотивов, связанных с разбираемым пучком. При этом основное внимание будет уделено мотивам, развиваемым в сб. <<Урания>> (отметим, впрочем, что на него приходиться больше половины упоминаний насекомых Бродским). В центре рассмотрения, однако, будет находится именно <<Муха>>, в которой сконцентрированы все интересующие нас мотивы. Но вначале хотелось бы сказать несколько слов о произведениях. образующих возможный интертекст этих мотивов. Даже если ограничится русской поэзией эта тема заслуживает отдельной — и достаточно большой — работы. Поэтому ограничимся только примерами, интересующими нас в связи со стихами Бродского. В книге Крепса справедливо указывается на связь <<Бабочки>> (и — добавим от себя — еще неизвестной автору <<Мухи>>) с работами английских поэтов-метафизиков: <<Бабочка Бродского производит впечатление вылетевшей из английской поэзии, где она находилась в гусеничном состоянии. по крайней мере, типам рифмы и общей интеллектуальной тональности она напоминает некоторые стихи Герберта, Вона и Марвелла>>.4 В.Тележинский в свою очередь указывает на связь <<Мухи>> с позднеантичными риторическими упражнениями: <<Многие стихи представляют собою, подобно сочинениям III-IV веков, род школьных упражнений на заданные, как бы подчеркнуто непоэтические темы; и тогда в <<Мухе>> можно видеть не только влияние английских метафизиков, но и упражнение в предметной риторике>>.5 Также можно указать на державинский подтекст одного из вариантов <<Сидя в тени>>, от руки вписанного автором в сб. <<Урания>>: Пусть торжество икры над рыбой еще не грех, но ангелы — не комары, и душ не хватит на всех.(У.*) Нам нельзя ль воображеньем Комаров равнять душам(<<Похвала комару>> Г.Р.Державин) Отметим, что на это же державинское стихотворение указывает К.Тарановский, как на возможный подтекст мандельштамовского <<Сеновала>>6. Русский <<насекомый>> интертекст вообще берет свое начало в допушкинской эпохе: так, М.Крепс упоминает в связи с <<Бабочкой>> <<Кузнечика>> М. Ломоносова, а ссылка на крыловское <<Ты все пела// это дело// так пойди же попляши>> служит рефреном <<Мухи>>: Пока ты пела, осень наступила. Лучина печку растопила. Пока ты пела и летала, похолодало. (...) Пока ты пела и летала, листья попадали. (...) Пока ты пела, за окошком серость усилилась. (...) Пока ты пела и летала, птицы отсюда отбыли. Однако в настоящей работе нас будут интересовать стихи поэта, достаточно далекого от Бродского по своей эстетике. Я имею в виду Н.М. Олейникова, в творчестве которого тема насекомых занимает важное место (<<Муха>>, <<Цокотуха>>, <<Таракан>>, <<Смерть жука>> и т.д.). Сразу отметим, что нам не известны никакие отзывы Бродского об Олейникове, хотя в интервью 7 он упоминает обереутов в весьма положительном контексте. Также он высоко оценивает Заболоцкого, в том числе — раннего, периода ОБЕРЕУ и <<Столбцов>> (<<Главный поэт советской эпохи.(...) Совершенно замечательный поэт. Как ранний, так и поздний>>.2). М.Мейлах также обратил наше внимание на наличие в <<Школьной анталогии>> трансформированной цитаты из * А.Введенского (<<И птицы, словно офицеры>>): Офицеры как птицы, с массой пуговиц вокруг Однако в связи с Олейниковым заслуживает, по-моему, особого внимания следующий фрагмент из интервью 8: Вопрос: Вам действительно нравиться то, что Лимонов пишет, его поэзия? Ответ: Не в том дело. Сам он — эдакий современный Смердяков. Да. Вам не кажется? Сопоставление Лимонова со Смердяковым как бы вторит известному сопоставлению Олейникова и Лебядкина, строчка которого (<<Таракан попал в стакан>>) служит эпиграфом к одному из самых знаменитых стихотворений Олейникова. По всей видимости именно этот образ, естественно, несколько трансформированный, мы можем обнаружить в <<Мраморе>> Бродского: Т у л л и й: Как у древних... То есть я хочу сказать, что например, оса, если поймать ее в стакан и блюдцем накрыть (...) то она там, как гладиатор в цирке. То есть, без кислорода. И стакан - он вроде Колизея, в этой, как ее, миниатюре. Особенно если не граненный.>>(М.17 — 18) Вернемся, однако, к <<Мухе>>. В одноименном стихотворении Олейников пишет: Бывало, возмешь микроскоп на муху направишь его на щечки, на глазки, на лоб потом на себя самого. И видишь, что я и она, что мы дополняем друг друга. (...) Но годы прошли и ко мне Болезни сошиляся толпой — В коленках, в ушах и спине Стреляют одна за другой. (...) И нет ничего впереди... О, муха! О, птичка моя! Сравним с фрагментами из <<Мухи>> Бродского: А ты совсем, видать, ослепла. Можно представить цвет крупинки мозга, померкшей от твоей, брусчатке сродни, сетчатки, и отметим также в стихах Олейникова такие характерные для Бродского вообще и для <<Мухи>> в частности мотивы как старость и смерть. Кроме того, рефрен <<пока ты пела>> может отсылать не только к Крылову, но и к финальному олейниковскому сопоставлению: <<О муха! О птичка моя!>> Отмечу, что в большинстве <<насекомых>> стихотворений Олейникова говориться именно о мертвых или умирающих насекомых — так же как и у Бродского (<<Сказать что ты мертва...>> / <<И ничего не стоит убить тебя>>). Однако особо интересны для нас строчки из <<Влюбленному в Шурочку>> Если ты псмотришь в сад, Там почти на каждой ветке Невеселые сидят, Будто запертые в клетки, Наши старые знакомые Небольшие насекомые: То есть пчелы, то есть мухи, То есть те, кто в нашем ухе Букву >> изготовляли, Что летали и кусали И тебя и твою Шуру За роскошную фигуру.<$F Любопытно отметить, что далее у Олейникова речь идет о блохе, покончившей с собой от любви. Сочетание мотивов блохи и любви вызывает ассоциацию со знаменитой <<Блохой>> Джона Донна, переведенной Бродским, хотя возможность знакомства Олейникова с этим стихотворением, мягко говоря, сомнительна. > Эти строки должны были бы привлечь Бродского столь близкой его поэтическому миру буквенной символикой, примеры которой можно найти во многих его произведениях (кстати, буква <<ж>> занимает здесь одно из первых мест): Сад густ, как тесно набранное <<ж>> <<Как ты жил эти годы?>> — <<Как буква <<г>> в <<ого>> Полицейский на перекрестке машет руками, как буква <<ж>>, ни вниз, ни вверх. Мелкие, плоские волны моря на букву <<б>>, сильно схожие издали с мыслями о себе, набегали извилинами на пустынный пляж и смерзались в морщины. (См. также примеры в статье 9) И, наконец, в стихотворении <<Муха>> мы находим следующие строки: О чем ты грезишь? О своих избитых, но не рассчитанных никем орбитах? О букве шестирукой, ради тебя в тетради, расхристанной на месте плоском кириллициным отголоском единственным, чей цвет, бывало, ты узнавала и вспархивала. Более того, мотив буквы оказывается связан с мухой не только в этом стихотворении: Жужжанье мухи, увязшей в липучке — не голос муки, но попытка автопортрета в звуке >>ж>>. Подобие алфавита Не завидуй. Причисли привиденье к родне, к свойствам воздуха — так же, как мелкий петит, рассыпаемый в сумраке речью картавой, вроде цокота мух Это наблюдение выводит нас сразу к двум важнейшим мотивам, связанным с насекомыми - мотивам звука и буквы (С последним связаны такие лексемы как <<алфавит>> и <<петит>>). Отметим, что в мотиве мухи эти два мотива сливаются (муха шестирука как буква Ж: <<сдает твоя шестерка, Шива>>; муха издает звук Ж, отображаемый, в свою очередь, в слове <<жужжание>>). Это <<слияние>> звука и буквы характерно для отношения Бродского-поэта к русскому языку. Еще в начале шестидесятых, обсуждая возможную реформу правописания, он писал: <<Фонетика — это языковой эквивалент осязания (...) Два <<н>> в слове <<деревянный>> неслучайны. (...) <<Деревянный>> передает качество и фактуру за счет пластики, растягивая звук как во времени, так и в пространстве. <<Деревяный>> ограничен порядком букв и смысловой ассоциацией, никаких дополнительных указаний и ощущений слово не содержит. Разумеется, можно привыкнуть — и очень быстро — к <<деревяному>>. Мы приобретаем в простоте правописания, но потеряем в смысле. Потому что (...) мы будем произносить на букву (на звук) меньше, и буква отступит, унося с собой всю суть, оставляя графическую оболочку, из которой ушел воздух. В результате мы рискуем получить язык, обедненный фонетически и — семантически>>.10 Таким образом, мы можем указать на возникновение некой — пока еще слабой — связи между пучком насекомых и мотивным комплексом, связанным с поэтическим творчеством. Для более детальной разработки этой связи перейдем непосредственно к анализу корреляций между мотивами, входящими в пучок насекомых и мотивами буквы (шире —письма) и звука. Помимо процитированных выше случаев, основные связи, возникающие между мотивами письма и насекомых приходятся на стихотворение <<Муха>>, где последовательно соотноситься слабые движения умирающей мухи и движения ручки по бумаге: Но, сравнивая с тем словом тебя, я обращаю в прибыль твою погибель, подталкивая ручкой подлой тебя к бесплотной мысли, к полной неосязаемости раньше срока. Отсюда, муха, длинноты эти, эта как бы свита букв, алфавита. Более того, Бродский повторяет рифму <<фразы>>->>заразы>>, впервые встретившейся у него в <<1867>>, и, вместе с ней, сравнение мух и людей, имеющих дело со словом. В обоих случаях объединяющим элементом служит смертоносность: Tем паче в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами — зараза, иль как в кафе удачно брошенная фраза И только двое нас теперь —заразы разносчиков. Микробы, фразы равно способны поражать живое. Неслучайно также, что в стихотворении <<Полдень в комнате>> мухи сравниваются на этот раз не с буквами, но с числами: Муха бьется в стекло, жужжа как >>восемьдесят>>. Или —>>сто>>. Здесь это превращение жужжания как множащейся буквы <<Ж>> в жужжание как числа выступает вестником финального пророчества стихотворения: В будущем цифры развеют мрак (...) Сонм их, вечным пером привит к речи, расширит рот, удлинит собой алфавит. Вместе с тем, еще в <<Бабочке>> летящее насекомое уподоблялось перу: Так делает перо, скользя по глади расчерченной тетради, не зная про судьбу своей строки; где мудрость, ересь смешались, но доверясь толчкам руки, в чьих пальцах бьется речь, вполне немая, не пыль с цветка снимая, а тяжесть с плеч. Обратим внимание, на то, что звук (речь) для Бродского опять оказывается связана с процессом письма, даже если он и не произнесен. Связь насекомых со звуком выражена у Бродского несколько сильнее, чем связь их с письмом, что, в большинстве случаев, представляется вполне естественным Обычно этот звук — жужжание: Bот так, как медоносная пчела, жужжащая меж сосен безутешно Жужжащее как насекомое, время нашло наконец искомое лакомство в твердом моем затылке. Насекомые ползают, в алой жужжа ботве, — пчелы, осы, стрекозы. Я понимаю только жужжанье мух на восточных базарах! Ежедневная ложь и жужжание мух будут им невтерпеж, но разовьют их слух. Муха бьется в стекле, жужжа как <<восемьдесят>>. Или — <<сто>>. Вечнозеленое неврастение слыша <<жжу>> це-це будущего, я дрожу вцепившись ногтями в свои коренья. В будущем, суть в амальгаме, суть в отраженном вчера в столбике будет падать ртуть, летом —жужжать пчела. В чем содержанье жужжанья трутня? Жужжание пчелы там главный принцип звука. Ропот листьев цвета денег, комариный ровный зуммер. В <<Мухе>> неспособность жужжать выступает как предвозвестие смерти героини: Не ты ли заполночь там то и дело над люлькою моей гудела, гонимая в оконной раме прожекторами? А нынче, милая, мой желтый ноготь брюшко твое горазд потрогать, и ты не вздрагиваешь от испуга, жужжа, подруга. Совсем испортилась твоя жужжалка! Как мы видим, жужжание с основном предицируется Бродским мухам и пчелам. Комарам, напротив, чаще прописываются вокальные способности: Вновь я слышу тебя, комариная песня лета! настойчивое соло комара кончается овациями спальни. Бабочка, наоборот, предстает лишенной возможности издавать звуки и ниже мы еще вернемся к этому наблюдению: Ты не ответишь мне не по причине застенчивости, и не потому что ты мертва. Жива, мертва ли — но каждой Божьей твари как знак родства дарован голос для общенья, пенья: продления мгновенья, минуты, дня. А ты —ты лишена сего залога. Однако в стихах Бродского насекомые издают не только такие привычные звуки как жужжание, но и более экзотические, такие как вой или шепот: Грек открывает страшный черный глаз, и муха, взвыв от ужаса, взлетает. День пролетел. Пчела шепчет по-польски <<збродня>>. Однако самым интересным из рассматриваемых случаев является мушиное пение. Выше уже отмечалось, что рефрен <<Мухи>> — <<пока ты пела>> — непосредственно отсылает к басне Крылова <<Стрекоза и муравей>>. Биологически и стрекозы, и мухи одинаково не могут петь, но если вокальные способности стрекозы является следствием построения ее басенного образа <<бездельницы>> и <<светской дамы>>, то в случае мухи они выглядит на первой взгляд просто невеселой шуткой, снижающей хрестоматийные строки. Однако это объяснение слишком просто, поскольку мухи у Бродского действительно могут петь: Еле слышный голос, принадлежащий Музе, звучащий в сумерках как ничей, но ровный как пенье зазимовавшей мухи, нашептывает слова, не имеющие значенья. Этот <<еле слышный голос>> обладает тем самым спокойным, ровным и нейтральным тоном, которым Бродский характеризует чистое время и к которому, по его собственным признаниям, он и стремиться в своей поэзии: <<Я склоняюсь к нейтральности тона, и думаю, что изменения размера или качество [стихотворных # К.С.] размеров, что ли, свидетельствуют об этом. И, если есть какая-либо эволюция, то она в стремлении нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником, т.е. чтобы было больше маятника, чем музыки>> 11 Действительно, та монотонность стремление к которой декларирует Бродский, является едва ли не самым заметным качеством мушиного жужжания, описанного выше. Поэтому сопоставление мухи с Музой в приведенном выше примере не случайно: В провалах памяти, в ее подвалах, среди ее сокровищ — палых, растаявших и проч. (вообще их ни при кощеях не пересчитывали, ни, тем паче, позднее) среди этой сдачи с существования, приют нежесткий твоею тезкой неполною, по кличке Муза, уже готовится. Отсюда, муха, длинноты эти, эта как бы свита букв, алфавита. В последней строке мы опять возвращаемся к мотивам письма и букв, с которых мы и начинали наше рассмотрение корреляции между мотивным пучком насекомых и комплексом мотивов поэтического творчества. Следующая связь, на которой хотелось бы остановиться —насекомые и время - также тесно связана с рассмотренными выше вопросами. Можно показать, что звук в поэтике Бродского тесно связан со временем (зрение же — с пространством), особенно если это негромкий мерный и монотонный звук, подобный жужжанию пчелы. Поэтому нас не должно удивлять, что Бродский связывает насекомых и время также посредством других мотивов. Так, мы можем заметить, что жужжание пчел/мух выступает как один из временных инвариантов, соотносимым и с прошлым и с будущим. Так, в географическом прошлом <<Пятой годовщины>> жужжание пчелы выступает как главный принцип звука и, вместе с тем, в будущем <<Арии>> или <<Полдня в комнате>> этот звук тоже не прекращается: Ежедневная ложь и жужжание мух будут им невтерпеж, но разовьют их слух. В будущем, суть в амальгаме, суть в отраженном вчера в столбике будет падать ртуть, летом —жужжать пчела. Вместе с тем, насекомые больше соотнесены с будущим, чем с прошлым. Именно им Бродский пророчит жизнь после нас, после <<конца света>>: Новый пчелиный рой эти улья займет, производя живой, электрический мед. Радиоактивный дождь польет не хуже нас, чем твой историк. Кто явится нас проклинать? Звезда? Луна? Осатаневший от бессчетных мутаций с рыхлым туловищем, вечный термит? Закат, выпуская из щели мышь, вгрызается — каждый резец оскален — в электрический сыр окраин, в то, как строить способен лишь способный все пережить термит; В определенном смысле, в будущем нет никого; в определенном смысле в будущем нам никто не дорог. (...) Конечно, там кто-то движется: мамонты или жуки-мутанты из алюминия, некоторые - на лыжах. В другой раз муха уже впрямую соотноситься с будущим: Вечнозеленое неврастение слыша <<жжу>> це-це будущего, я дрожу вцепившись ногтями в свои коренья. Из трех линейных времен будущее ближе всего к бессубъектному чистому времени, Времени с большой буквы и поэтому прямое уподобления насекомого - времени не является для нас неожиданным: Жужжащее как насекомое, время нашло наконец искомое лакомство в твердом моем затылке. Отметим, что опять из всех признаков насекомых выделено жужжание. Маленький размер насекомых позволяет воспринимать их — как это и происходит в темноте, особенно с комарами, — как чистый звук, звук без материи. Размер насекомых актуализируется, например, в <<Мраморе>>: <<Т У Л Л И Й. И вообще — жалко, что это — канарейка, а не, скажем, оса. П У Б Л И Й. Оса?! Какая оса?! Т У Л Л И Й. Потому что —миниатюризация. Сведение к формуле. Иероглиф. Знак. Компьютерные эти... как их. Ну когда все — мозг. Чем меньше, тем больше мозг. Из силикона.(...) А то, что канарейка — слишком большая. Почти животное. Не годиться по стилю. В смысле — эпохи. Много места занимает. А оса маленькая, но вся — мозг.(М.17-18) Неслучайно, что эпоха <<Мрамора>> как раз эпоха приближения к чистому времени - по крайней мере по сравнению с нашей эпохой. Близость ко времени как следствие миниатюрности ясно просматривается и в стихотворении <<Бабочка>>, где она достигается за счет употребления применительно к бабочке формулы, применяемой при противопоставлении пространства и времени: Кто был тот ювелир, что, бровь не хмуря, нанес в миниатюре на них тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где ты, как мысль о вещи, мы — вещь сама? Перефразируюя Туллия можно сказать, что насекомое — чем меньше, тем больше звук, тем больше чистое время. Не случайно, бабочка, лишенная голоса, становиться еще ближе к ничто, чем время: твой век, твой вес достойны немоты: звук — тоже бремя. Бесплотнее, чем время, беззвучней ты. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 03-07-2007 22:50 |
|
Почти полное отсутствие места, занимаемого насекомым, делает его ближе к <<мысли о вещи>>, сближая с рассмотренными пылью и снегом, которые, как известно, также коррелируют у Бродского с чистым временем. Вне сомнения, насекомые и пыль традиционно могут быть отнесены к одному мотивному пучку, обычно связанному с запустением и скукой: Ах лето красное! Любил бы я тебя Когда б не зной, да пыль, да комары да мухи.(Пушкин) Однако ближе к эстетике Бродского находится стихотворение <<Прощание с друзьями>> высоко ценимого им Н. Заболоцкого (см. выше цитату из интервью 2), посвященное его товарищам по ОБЕРЕУ (ср. в качестве его возможного подтекста <<Смерть жука>> Олейникова) Там на ином, невнятном языке Поет синклит беззувчных насекомых Там с маленьким фонариком в руке жук-человек приветствует знакомых Спокойно ль вам, товарищи мои? Легко ли вам? И все ли вы забыли Теперь вам братья — корни, муравьи Травинки, вздохи, столбики из пыли. Здесь, как и у Бродского, пыль выступает как вариант посмертного бытия. Отметим в связи с этим, что насекомые - даже живые — ближе к пыли, чем человек. Пыль для них до и после смерти одна и та же — как время для поэта. Оно [время # К.С.], пока ты там себе мелькала под лампочкою вполнакала, спасаясь от меня в стропила<$F Возможная автоцитата из раннего стихотворения <<Зимним вечерм на сеновале>>. Отметим, что мотылек заменяется мухой, что само по себе характерно как признак сдвига в сторону менее <<поэтических>> насекомых в поздней лирике. Неслучайно также, что осы, прочно завоевавшие себе место в русской поэзии благодаря Мандельштаму почти не упоминаются Бродским. >, таким же было, как и сейчас, когда с бесцветной пылью ты сблизилась, благодаря бессилью и отношению ко мне. Отметим, что бесцветность (серость) тоже неоднакратно предицируется Бродским времени. Л.Лосев в своем эссе 12 справедливо выделяет стихотворение <<Я обнял эти плечи...>> (1962) как первое в длинном ряду произведений Бродского, посвященных теме времени. Отметим, что мотив пыли появляется уже в нем (<<в раме запыленной // застыл пейзаж>>). Для нас важно, что завершается стихотворение летящим насекомым: Hо мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. Превращение в снег является для Бродского одним из вариантов совпадения с чистым временем и, вместе с тем, вариантом посмертной судьбы, что можно, например, хорошо видно при анализе <<Осеннего крика ястреба>>. Тот же вариант автор предсказывает и героине <<Мухи>>: Но дверь откроем — и бледным роем они [души умерших мух # К.С.]рванутся мимо нас обратно в действительность, ее опрятно укутывая в плотный саван зимы Конечно, так же как в рассмотренном выше случае стать снегом проще тому, кто и при жизни обладал такими свойствами как малый размер и неисчислимость. О первом из них уже говорилось выше, а что касается второго, то еще раз приведем фрагмент из <<Арии>>: Пусть торжество икры над рыбой еще не грех, но ангелы — не комары, и душ не хватит на всех. Эти строки вступают в кажущееся противоречие с строфой <<Мухи>>, идущей сразу за цитированной выше: тем самым подчеркивая — благодаря мельканью, — что души обладают тканью, материей, судьбой в пейзаже; что, цвета сажи, вещь в колере — чем бить баклуши — меняется. Что, в сумме, души любое превосходят племя. Однако противоречие это легко снимается<$F Хотя и снимать-то его не так уж и обязательно. Задавая ту или иную корреляцию (напр. души-насекомые) поэт совсем не должен ее трактовать одинаково. В новом стихотворении она может быть инвертирована, что у Бродского часто и происходит — см. например в 5>, если вспомнить, что речь идет о <<мушиных душах>>. На людей душ не хватит — но мух и комаров хватит вполне. Между тем, отношения человека и насекомых тоже заслуживают специального рассмотрения. Бродский неоднократно подчеркивает свое родство с героиней <<Мухи>>: И только двое нас теперь — заразы разносчиков. Микробы, фразы равно способны поражать живое. Нас только двое: твое страшащееся смерти тельце, мои, играющие в земледельца с образованием примерно восемь пудов. Плюс осень. Не думай с тоской угрюмой, что мне оно [время # К.С.] — большой союзник. Глянь, милая, я — твой соузник, подельник, закадычный кореш; Теперь нас двое, и окно с поддувом. И никому нет дела до нас с тобой. Мной овладело оцепенение — сиречь, твой вирус. Однако даже более показательна прямая автоцитата из <<Четвертой эклоги>>. Ср.: <<Жизнь затянулась>> (о мухе) и <<Жизнь моя затянулась>>. И тогда возникает подозрение, что мотив родства мухи и сахара, разрабатывается Бродским во многих стихотворениях (см.: Особенно — во сне. И, на манер пустыни, там сахарный песок пересекаем мухой. и поклонники этого действа. Латы самовара и рафинад, от соли отличаемый с помощью мухи. Соло Но не пленить тебя не пирамидой фаянсовой давно не мытой посуды в раковине, ни палаткой сахары сладкой. ) только для того, чтобы в <<Элегии>> скоррелировть его с одним из главных своих мотивов: разлукой: Норовя прослыть подлинно матерью и т.д. и т.п., природа могла бы сделать еще один шаг и слить их воедино: тум-тум фокстрота с крепдешиновой юбкой; муху и сахар; нас в крайнем случае. Помимо отмеченной выше борьбы с изображении насекомых в русской поэтической традицией с ее сквозной метафорой <<беспечный человек — мотылек>> (отраженной, кстати, и в <<Стрекозе и муравье>>), Бродский предпочитает сопоставление человека с мухами и комарами еще и потому, что они — меньше, легче, и <<то, как время уподобляет их себе>> видно уже воочью: бабочка потому и вызывает удивление, что она — почти Ничто, близка ко времени, меньше чем время, но совсем не подобна ему. Это вызывает удивление автора едва ли не больше, чем мастерство Творца, о котором говорит комментируя III — VII строфы <<Бабочки>> Крепс 4: Сказать, что вовсе нет тебя? Но что же в моей руке так схоже с тобой? и цвет — не плод небытия. (...) На крылышках твоих зрачки, ресницы — красавицы ли, птицы — обрывки чьих, скажи мне, это лиц портрет летучий? Каких, скажи, твой случай частиц, крупиц являет натюрморт: вещей, плодов ли? Муха же не вызывает удивления: ее серость и фактическая незримость <$F <<Тела уступка душе>>! См. <<Литовский ноктюрн. Томасу Венцлова>>> (чего про бабочку, несмотря на ее размер, не скажешь) устраивают автора, также как саму муху устраивает дух лежалый жилья, зеленых штор понурость. <<Лежалый дух>> жилья сродни мухе, поскольку он сродни времени. Поэтому он близок самому автору, поэтому он и сравнивает себя постоянно с героиней стихотворения (чего, кстати, Олейников не делал: для него муха прежде всего женщина, увядшая красавица). И теперь, фраза подвыпившего пассажира из стихотворения <<Новый Жюль Верн>> начинает приобретать новый смысл, прорывающийся сквозь ее хмельной синтаксис: <<Человек, он есть кто?! Он — вообще —комар!>> Мы видим, что при обращении Бродского к теме насекомых происходит ориентация на периферийные элементы соответствующего интертекста. Так, совершенно отброшенными оказываются сатирические коннотации восходящие к известной эпиграмме Пушкина, центр тяжести перенесен на намеренно <<непоэтических>> насекомых, таких как мухи и комары. Это приводит к возникновению определенных параллелей с линией Достоевского-Лебядкина, продолженной в нашем веке обереутами и прежде всего Олейниковым. Это, по всей видимости, не случайно также и потому, что одна из предложенных в романах Достоевского интерпретаций бытия должна быть близка Бродскому. Я имею в виду известные слова Свидригайлова: <<Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же неприменно огромное И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность.>> Вне сомнения, Лебядкин (=Олейников) и Смердяков (=Лимонов) относятся к кругу персонажей, развивающих те же идеи. Так же несомненно, что к нему же Достоевский отнес бы мыслителя, помещающего мух и пыль поблизости от центра своего внутреннего мира. Бродский, как мы видим, делает именно это: насекомые и пыль расположены в непосредственной связи с поэзией и временем, которые <<больше>> всего в его поэтике. Эта связь является результатом не только летучести, малого размера или серости, но и следствием более общих взглядов Бродского. Здесь уместно вспомнить их связь со скукой и запустением о которых говорилось выше. Бродский склонен рассматривать ее как нечто большее, чем то, что видели в ней его предшественники по русской литературе: Скука, в конечном счете, наиболее характерное свойство бытия, удивительно, почему ее так низко ценили в русской культуре XIX века, которая так гонялась за реализмом>> |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-07-2007 23:03 |
| Я понимаю, что именно сейчас вам пришла фантазия разместить типа ответ - про Бродского. Повторять шутку про прерванный цикл я не буду, но задумалась, продолжать или не продолжать. | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 04-07-2007 00:07 |
Думать в любом случае полезно А что моя фантазия не приглянулась? |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 05-07-2007 09:29 |
|
Николай Михайлович Языков Оба старших брата Языкова, Петр Михайлович и Александр Михайлович, учились в Горном кадетском корпусе, считавшемся одним из лучших учебных заведений в России. Туда же был отдан в 1814 году одиннадцатилетний Языков. Через пять лет, не окончив курса, он перешел в Институт корпуса инженеров путей сообщения, пробыл там год и был исключен за непосещение занятий. Математические науки и казенный дух заведения тяготили Языкова, вкусы и наклонности которого к этому времени уже успели определиться. Еще в Горном корпусе Языков, по-видимому, поверил в свое поэтическое дарование. Этому способствовали и литературные знакомства старших братьев, и непосредственное окружение Языкова в корпусе. Особая роль тут принадлежала преподавателю А.Д. Маркову, который занимался с Языковым приватно русским языком и, первым предузнав в нем поэта, поощрял его к поэтическим занятиям. Марков привил Языкову вкус к поэзии XVII века, в частности – к Ломоносову и Державину. Ему, должно быть, Языков обязан и пробуждением интереса к русской истории, существенного для его поэзии и формирования общественных взглядов. Среди корпусных соучеников Языкова многие писали стихи, а иные даже печатались в журналах (А.Н. Кулибин, А.Бальдауф). Молодые поэты обменивались стихотворными посланиями, были друг для друга ценителями и критиками. Например, первое опубликованное стихотворение Языкова было посвящено Кулибину. Исключенный из института, Языков некоторое время провел на родине, в Симбирске, но весной 1821 года, по настоянию братьев, он возвращается в Петербург с намереньем продолжить образование – уже в университете. Однако в 1821 году в Петербургском университете, с приходом на должность попечителя известного реакционера Рунича, начались преследования либеральной профессуры. Поэтому на семейном совете было решено, что Языкову лучше поступить в Дерптский университет, славившийся своими научными силами и сохранявший некоторые привилегии и вольности. Осенью 1822 года Языков отправляется в Дерпт, ныне Тарту, и весной следующего года, усовершенствовавшись в немецком языке, поступает на философский факультет. Последний год, проведенный в Петербурге, утвердил Языкова в намерении стать поэтом. “Большая часть времени” его проходит, как он признается он брату, “в сочинении стихов”. “Важнейшее и почти единственное…удовольствие его в Петербурге” составлял в этот год театр. В это же время он увлекается Байроном. Переехав в Дерпт, Языков не только не утратил свои связи с литературной средой, но еще более расширил и укрепил их. По совету А.Ф. Войекова, жившего в то время в Дерпте, он поселился у секретаря Дерптского уездного суда, известного переводчика русских поэтов на немецкий язык Фон Дер Борга , и почти сразу принялся помогать ему а работе, помогая выбирать для переводов все наиболее примечательное в русской литературе. Ловкий и предприимчивый издатель и известный поэт, почувствовавший в молодом поэте незаурядный талант, Войеков оказывал Языкову всяческое внимание. Имея в виду нужды своего журнала (“Новости литературы”) и не желая терять из виду Языкова, он рекомендовал его своим знакомым и родным. Здесь, в Дерпте, Языков познакомился с А.А. Войековой (племянницей Жуковского), увлечение которой оставило заметный след в его жизни. Она оказала на поэзию Языкова самое благотворное влияние: заставляла относиться с уважением к своему призванию, побуждала писать стихи и была их строгим и разборчивым ценителем. Несмотря на рассеянный образ жизни и активную творческую деятельность, Языков приобрел в эти годы солидные познания в области русской и мировой истории, овладел в совершенстве немецким языком, открывшим ему путь к немецкой литературе; небезуспешно занимался он латинским и греческим языками, статистикой, государственным правом и даже политической экономией. Читал Языков в это время очень много, и по-русски, и по-немецки, увлекался Шекспиром, Кернером, Тиком, Кальдероном, с интересом относился к творчеству Пушкина, Крылова, увлекался Карамзиным, как автором “Истории государства Российского”, очень много и серьезно занимался историей. Правда, уехал Языков из Дерпта “свободно-бездипломным”, так как не решился держать экзамен за университет, но дело было вовсе не в недостатке познаний. По его словам, он не хотел терять времени, добиваясь чего-то, что ему не нужно, так как чувствовал себя “способным существовать для одной поэзии и одной поэзией”. В творчестве Языкова легко выделить два периода. Первый – дерптский – охватывает 1820-е годы и завершается примерно 1833 годом, выходом первого сборника стихотворений поэта. Второй – московский и заграничный – тянется с 1834 по 1846 год. Конечно, это деление условно, однако конец 1820-х – начало 1830-х действительно явились в поэзии Языкова своего рода высшей точкой подъема и одновременно отправным пунктом его движения в другом направлении. В эти годы по общественным и политическим взглядам Языкова можно сблизить с декабристами. Хотя его и нельзя назвать оным. Крайне расплывчаты были его идеалы, его вольнолюбие не было особенно стойким и серьезным. Однако искреннее возмущение, отвращение к гнету и тирании побудили Языкова создать в период с 1823 по 1826 год произведения, что называется, революционного характера. Поэтическая индивидуальность Языкова сформировалась в 1823 года. Это было время общественного подъема, предшествовавшего восстанию 1825 года, а в литературе - ожесточенных споров о направлении русской поэзии и первых побед романтизма. Большинство из дошедших до нас ранних стихотворений Языкова явно несамостоятельны; однако ими он сразу заявил о своей приверженности романтизму. Послания Языкова к Кулибину, Очкину, брату (“Столицы мирный житель”) и даже стихотворение 1823 года “Мое уединение” с их характерными темами (невзгоды судьбы, утешения любви и дружбы, сладость уединенной жизни и воспоминаний) были типичными для того времени подражаниями Жуковскому и Батюшкову. И в этих первых стихотворения еще нет ничего собственно языковского, это лишь первые романтические опыты и не более. Только в “Песне короля Регнера”, “Моей родине” и посвящении брату А.М. Языкову (“Тебе, который с юных дней…”), написанных в конце 1822 года, обнаруживается талант молодого поэта, время от времени возникают характерные для него в будущем мотивы и поэтические интонации, привлекши впоследствии внимание Дельвига, а вскоре после него и Пушкина. В 1820-е годы Языков одним из первых среди декабристских поэтов обратился к своеобразному “жанру” песен баянов или бардов на поле битвы. Языков, как подмечает Ю.М. Лотман, в отличие от своих предшественников, не боится брать эпохи порабощения и поражения русского народа, и это только увеличивает связь его “песен” с современностью, резче обозначает их агитационную направленность. (стихотворения “Ротчеву” 1826 г. и “Бард на поле битвы” 1826-1828гг.) Как и другие поэты декабристского направления, он искал в истории поучительных примеров для современников. Отсюда в его поэзии широкая система своеобразных намеков, употребление слов-сигналов, вызывающих политические ассоциации (свобода, рабы, цепи, честь, отчизна и пр.), другими словами, ряд приемов характерных для вольнолюбивой лирики той эпохи. Однако было в этих стихах и что-то новое, свойственное ему одному… В частности, по стиховому темпу Языков не только резко отличался от поэтов XVIII века, но и занимает, образно говоря, первое место среди поэтов своего времени. Типичные для Языкова пропуски ритмических ударений на первой и третьей строфе четырехстопного ямба создают впечатление того страстного поэтического “захлеба”, который поражал современников поэта и до сих пор поражает нас. Когда с толпой отважных братий Ты грозно кинешься на бой, - Кто сильный сдержит пред тобой Врагов тьмочисленные рати? Кто сгонит бледность с их лица При виде гневного бойца? В языковской громкозвучности, эффектности таилась и некоторая опасность: порой она отзывалась холодностью чувства, могла обернуться даже безвкусицей. Но таких срывов в первой половине 1820-х годов у Языкова практически нет, его охраняло глубокое и подлинное лирическое чувство. Строя период, Языков умело использует и старые, накопленные одой XVIII века средства. Он часто прибегает к риторическим вопросам, характерным одическим восклицаниям. Но в отличие от поэтов XVIII` века его мысль не развивается обстоятельно и плавно. Языков старается выговорить ее одним дыханием (очень част его период – это одно предложение), причем само развертывание мысли – это всегда нарастающее движение к кульминации. ( “К Давыдову”) Немаловажны были заслуги Языкова и в обновлении образной системы и словаря высокой поэзии. В конце 1810-х – начале 1820-х годов в гражданской лирике, в пределах определенных устойчивых стилей дает себя знать та же тенденция к омертвлению поэтического словаря. Одни и те же слова и образы, переходящие от поэта к поэту, из стихотворения в стихотворение, призванные вызывать один и тот же привычный круг ассоциаций, - в какой-то мере утрачивали свое предметное значение, а, значит, и выразительность. По мере дальнейшего развития романтизма происходит разрушение устойчивых стилей. У Языкова это стало явлением характернейшим и принципиальным. Он сознательно и постоянно заботился об обновлении поэтического словаря, добиваясь особой весомости образа и слова. Впечатления поэтической свежести Языков достигает в основном двумя путями. Наиболее популярный заключается в оживлении омертвевшего словаря высокой поэзии, в возвращении словам их живого, конкретного значения. Это явление можно наблюдать у Языкова хотя бы на примере “Рока” - одного из его ранних стихотворений. Смотрите: он летит над бедною вселенной. Во прах, невинные, во прах! Смотрите, вот кинжал в руке окровавленной И пламень Тартара в очах! Увы! Сия рука не знает состраданья, Не знает промаха удар! Этот способ оживления, конечно, принадлежит не одному Языкову. Он был открыт для русской поэзии еще стихами Державина… Но главная заслуга Языкова была в том, что в его творчестве мысль и чувство гражданина обрели правдивое выражение. Конечно, здесь главенствующая роль принадлежит Пушкину и Грибоедова, однако Языков сделал немаловажный и совершенно особенный вклад в решение этой задачи. Белинский видел историческую заслугу Языкова только в том, что его оригинальные стихотворения “дали возможность каждому писать не так, как все пишут, а как он способен писать, следственно, каждому дали возможность быть сами собой в своих сочинениях”. В 1823 году был написан цикл застольных песен Языкова, в которых муза его, как писал он братьям, появляется в “бархатной шапке, с дубовою ветвию”, то есть в студенческом одеянии. Песни эти, как и многие другие произведения Языкова, не были напечатаны при его жизни. Среди современных ему поэтов Языков ближе всего стоял к Денису Давыдову. Их роднило многое: биографизм, колоритность изображаемой сферы (у Давыдова гусарской, у Языкова – студенческой, “бурсацкой”), быстрый стиховой темп. Но за внешне сходными поэтическими чертами у Давыдова и Языкова стоит разное содержание. Один воспевает и славит такие человеческие качества, как простодушие, прямота, мужество, преданность отечеству; другой поэтизирует, прежде всего, высокое наслаждение гражданской свободой. Центральное место среди студенческих произведений Языкова должно отвести его песням, в которых наиболее ярко проявились лучшее черты его вольнолюбивой поэзии. В общем потоке декабристской лирики эти песни Языкова отличаются не столько глубиной и силой политической мысли ( в этом отношении они, как и другие его стихотворения не представляют собой ничего исключительного), сколько политической дерзостью, своеобразным вызовом самодержавию. Их достоинство и особенность составляет упоение независимой жизнью, возможностью свободно мыслить и жить. В этом был пафос студенческой лирики Языкова и особая заслуга его перед русской и, в частности, перед декабристской поэзией. Песни Языкова возникли в русской литературе, разумеется, не на пустом месте. Им предшествовали и сопутствовали, кроме гусарских стихов Дениса Давыдова, русская “анакреонтика”, лицейская лирика Пушкина и стихи поэтов-декабристов, воспевавших дружеские пиры. Не бесследно прошли для формирования языковской поэзии также застольные песни Гете и Шиллера, широко распространенные в Дерптском университете, и немецкие студенческие песни, распевавшиеся на комерсах – корпорационных пирушках. При всем том Языков нашел в песнях свой тон, свой характерный колорит. Его песни отличаются живой бытовой окраской. Он создает конкретный образ русского студента в Дерпте, человека, ускользнувшего на время от бдительного полицейского надзора, от близости к русскому самодержавию, наслаждающегося своим вольным житьем: Здесь нет ни скиптра, ни оков, Мы все равны, мы все свободны, Наш ум – не раб чужих умов, И наши чувства благородны… Острый политический намек, вольная шутка отличает его песни от произведений его предшественников, отвлеченно славящих дружбу, юность, свободу и вино, горячащее сердце и головы. Наш Август смотрит сентябрем – Нам до него какое дело… Пускай святой триумвират Европу судит невпопад… “ У меня пьянство свое, - писал Языков, - оно, так сказать, mare clausum моей поэзии”. Пушкин и Гоголь сравнивали поэзию Языкова с хмелем. “Человек с обыкновенными силами, - говорил Пушкин, - ничего не сделает подобного. Тут потребно буйство сил.” “Буйство” стихотворений Языкова как нельзя лучше передавало опьяняющее чувство легкости, смелости, свободы, владеющее его лирическим героем. Песни были зерном созданного Языковым образа поэта-студента, который, однако, по своему общественному содержанию не может быть полностью сведен к их дерзкому, но несколько поверхностному вольнолюбию. В формировании этого образа, расширяя и углубляя его, принимали участие также и такие стихотворения Языкова , как “Муза”, “Поэт свободен. Что награда…”, в которых Языков говорит о независимости поэта и торжестве свободного искусства над “разнузданной силой” тирании; и типично декабристские, с уроком для современности, произведения его на историческую тему – “Евпатий”, “Новгородская песнь”, примыкающие к его песням бардов и баянов; и горькие политические элегии Языкова. Сюда причастны также интимная лирика поэта и его дружеские послания. Любовные стихотворения Языкова в 1820-е годы, почти все связанные с именем А.А. Войековой, большей частью окрашены чувством досады и разочарования. “Божество” поэта, его “рай”, “звезда”, указавшая ему путь вдохновений и пробудившая в нем “любви чарующую силу”, оказывается далеко не идеальной, а сама любовь – несерьезным увлечением. По форме эти стихотворения привлекают внимание своей поэтической смелостью. С трудом они могут быть названы элегиями, этот жанр в творчестве Языкова оказался сильно разрушенным. Наполненный новым содержанием, он почти совершенно (исключение составляют политические элегии) утратил черты высокого стиля. Более того, большей частью элегия выступает у Языкова как жанр “низкий”. Просторечия, нарочитая небрежность языка, смелые поэтические сравнения – все это встречается у Языкова более чем где-нибудь именно в элегиях. Смысл и стилистический эффект этих стихотворений обычно сосредоточены ближе к концу, в последних строфах. В первых же частях ироничный тон едва заметен. Теперь мне лучше: я не брежу Надеждой темной и пустой, Я не стремлюсь моей мечтой За узаконенную межу В эдем подлунный и чужой. Во мне уснула жажда неги. Неумолимый идеал Меня живил и чаровал – И я десятка два элегий Ему во славу написал. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 05-07-2007 09:30 |
|
Но внезапно вторгающийся смелый оборот (в данном случае просторечное “с десятка два”) подготавливает иронический поворот концовки. Но тщетны миленькие бредни: Моя душа огорчена, Как после горестного сна, Как после праздничной обедни, Где речь безумна и длинна! Как правило, в этих концовках Языков прибегает к изысканно дерзким, бытовым и часто “низким” сравнениям: И как сибирская пищуха Моя поэзия поет. И глупость страсти роковой В душе исчезла молодой… …Так, слыша выстрел, кулики На воздух мечутся с реки… Языковские дружеские послания первой половины 1820-х годов развивают темы его вольных песен, но по сравнению с этими песнями в них более отчетливо звучит мотив благородного служения родине: независимая свободная жизнь готовит молодые сердца к подвигам “чести и добра”, учит их не унижаться перед самовластьем и не считать “закон царя” “законом судьбы”. К середине 1820-х годов, времени расцвета дарования Языкова относится его известный пушкинский “цикл” - “Тригорское”, послания к Пушкину, няне Пушкина… Языков встретился с Пушкиным летом 1826 года, приехав для этого в Тригорское, имение своего дерптского приятеля А.Н. Вульфа. Инициатива знакомства принадлежала Пушкину, который первым обратился к Языкову посланием (“Издревле сладостный союз…”) и пригласил его приехать. В этих стихотворениях встреча с Пушкиным, очаровавшим Языкова талантом, умом, свободолюбием, предстает как некий пир в честь вольности и вдохновения. Все обстоятельства и подробности этой встречи окрашиваются в соответствующие тона. Тригорское – это страна, …где вольные живали Сыны воинственных славян, Где сладким именем граждан Они друг друга называли, - это Приют свободного поэта, Не побежденного судьбой. Пушкин для Языкова “вольномыслящий поэт, наследник мудрости Вольтера”. Беседуя, поэты летают “мыслью вдохновенной” в “былых и будущих веках”…Даже Волга – родина Языкова, так часто им воспеваемая, первый и единственный раз становится в этих стихах “рекой, где Разин воевал”. В споре Пушкина с самодержавием Языков решительно и демонстративно принимает сторону поэта: Теперь, когда Парнаса воды Хвостовы черпают на оды И простодушная Москва, Полна святого упованья, Приготовляет торжества На светлый день царевенчанья, - С челом возвышенным стою Перед скрижалью вдохновений И вольность наших наслаждений И берег Сороти пою! (“А.С. Пушкину”) В стихотворениях пушкинского “цикла”, во многих отношениях являющихся вершиной поэтических достижений Языкова, он показал себя и мастером пейзажной лирики. В творчестве Языкова первого периода почти нет просто описательных, пейзажных произведений (исключение составляет стихотворение “Две картины”, но и оно по замыслу часть поэмы). Однако встречающиеся у него в это время изображения природы значительны, интересны и до сих пор сохраняют силу своего воздействия. Очевидно, что в описательной поэзии Языков, как и Рылеев, во многом был учеником Пушкина, но, несомненно, и его поэтическое своеобразие. Оно сказывается, прежде всего, в самом подходе к изображению природы. Языков рисует не просто виды, пейзажи, картины – он рисует явления природы. Что бы он ни изображал – бурю ли и грозу или свежее утро, лунную ночь, томительно жаркий день – это именно явления природы, о которых поэт говорит торжественным, “ломоносовским”, “державинским” языком, добиваясь при помощи смелых поэтических образов свежести, реальности этих величественных картин: Бывало, в царственном покое Великое светило дня, Вослед за раннею денницей, Шаром восходит огневым И небеса, как багряницей, Окинет заревом своим; Его лучами заиграют Озер живые зеркала; Поля, холмы благоухают, С них белой скатертью слетают И сон и утренняя мгла… Характерно, что языковские картины природы всегда даны в движении, в процессе перехода из одного состояния в другое, они совершаются, как и подобает природным явлениям. Сверкающие утро на озере сменяется душной ночью (“Две картины”), душный день – ночной грозой, причем сама гроза собирается медленно, постепенно приближаясь и нарастая, и наконец разражается громом, ливнем, молнией (“Тригорское”). После декабря 1825 года вольнолюбивый пафос стихотворений Языкова заметно ослабевает. Его стихотворения и переписка 1826 года свидетельствует еще о верности прежним настроениям, о негодовании, которое пробуждают в нем репрессии правительства, жестокость и лицемерие… В стихотворениях 1827 года того же пушкинского “цикла” Языков говорит уже главным образомо “сельской”, “милой и безгрешной” свободе, о вражде и презрении Пушкина уже не столько к самодержавию, сколько к “ласкам” и “изменам” людским. Теперь его восхищение пылкими беседами о свободе в “былых и будущих веках” сменяется умилением патриархальной стороной, оживающей в “пленительном рассказе” Арины Родионовны про “стародавних бар” “почтенные проказы”. Очень показателен для новых настроений Языкова цикл студенческих песен 1829 года. Нет уже здесь ни политических намеков, ни смелых шуток. Свобода теперь понимается как свобода студента-гуляки, которому “разгульные красотки” и вино полностью заменяют “Волхов, Тибр и Иппокрену” ( то есть вольность и вдохновение). Большое место начинают занимать у Языкова (снова, как и в начале 1820-х годов) интимные дружеские послания и любовные элегии. Преобладающее содержание этих, очень похожих друг на друга посланий, - затянувшееся прощание с Дерптом, воспоминание о веселой и вольно протекшей юности, жалобы на оскудевшее вдохновение. По форме – это все напутствия друзьям, выходящим на самостоятельную жизненную дорогу. Поскольку из творчества Языкова постепенно уходит большое общественное содержание, интимная тема становится в нем особенно заметной. Это сознает и сам Языков. “Все переменилось, - жалуется он в 1830-ом году своему дерптскому товарищу, - жизнь и поэзия моя!”: Гляжу печальными глазами На вялый ход мне новых дней И славлю смертными стихами Красавиц родины моей! Восторг в его стихах это теперь по большей части упоение любви, само вино – образ любовного хмеля. В эти же годы появляются в стихотворениях Языкова библейские мотивы и образы, предвещающие такие его стихотворения 1840-х годов, как “Сампсон” и “Землетрясенье”. (Сампсон, он же Самсон – древнееврейский герой, отличавшийся огромной силой, секрет которой заключался в его волосах.) Раньше поэт Языкова – это или баян, традиционный в декабристской литературе певец-воин, поющий славу героям и пламенной любви к свободе, или независимый, свободный гений, для “торжественных трудов” которого не может служить наградой “милость царственного взгляда” и “восхищение рабов”. Теперь же миссия поэта представляется ему высоким, “избранническим” служением мудрости и добру. Поэт призван смягчать своим пением равно и муки раба и жестокость “венчанного произвола”. Во второй период творчества Языков, развиваясь в направлении, предуказанном русской поэзии Пушкиным, отказывается от образа поэта-студента. И не только потому, что он покинул Дерпт и университет. Основная причина в том, что образ этот, утратив после декабря 1825 года наиболее значительные и привлекательные черты, а с ними прогрессивный общественный смысл, изжил себя. Первые попытки Языкова создать эпическое произведение относятся еще к 1820-м годам. Правда, в это время Языкову так и не удалось написать романтической поэмы, ни даже наметить в этой области что-либо существенно новое. Языков, претендовавший на одно из первых мест в литературе, очень ревниво относившийся не только к успехам поэтов пушкинского окружения, но и к славе самого Пушкина, живо ощущал необходимость выступить с поэмой. Первая его проба в этом роде датируется 1823-1824 годами, временем, когда Языков узнает о “Братьях-разбойниках” и других поэмах Пушкина, а позже увидел печатное издание “Бахчисарайского фонтана”. Причем надо сказать, что побуждение написать поэму было у Языкова тем сильней, что известные ему пушкинские поэмы ему совершенно не нравились. Прочтя в списках“Бахчисарайский фонтан”, он утверждал, что “эта поэма едва ли не самая худшая из всех его прежних”, что стихи ее “вялы, невыразительны и даже не так гладки, как в прочих его стихотворениях”. И хотя он изменил мнение, познакомившись с печатным изданием поэмы, однако и тогда высказывает сожаление, что “Пушкин мало или, лучше сказать, совсем не заботится о планах и характерах и приводит много положений, с его точки зрения ненужных и лишних”. Одной из самых популярных тем в 1820-е годы была так называемая ливонская тема. Как показывают исследования, интерес к жизни прибалтийских стран, в частности к Ливонии, был характерен для многих поэтов декабристского круга. “Отсутствующий в русской старине мир рыцарского средневековья, - пишет С.Г. Исаков, - был найден в Ливонии, составной части Российской империи.. Феодальная пора Ливонии оказалась тем долгожданным отечественным рыцарским средневековьем, о котором мечтали романтики”. Именно в таком плане Ливония привлекала Языкова. Быт и нравы орденской Ливонии, русско-ливонские войны (особенно эпоха Ивана Грозного и взятие Вендена), Петр в Ливонии и Паткуль – вот излюбленные мотивы произведений на ливонскую тему в 1820-е – 1830-е годы. И почти всем им отдал дань Языков. В 1824 году им было написано стихотворение “Ливония”, которое представляло собой вступление к одной из задуманных им ливонских поэм (вероятнее всего, к “Меченосцу Арану”), затем начало поэмы “Ала” и приписка к ней. В 1825 году Языков оставляет “Алу” для написания новой поэмы – “Меченосец Аран”. Ливонские поэмы, как и начатая во время летней поездки в Симбирск поэма о волжских разбойниках, не были завершены. От них остались лищь лирические вступления, зачины, пейзажные фрагменты. Кроме сцены боя в “Меченосце Аране” Языкову не удалось создать ни одной сцены, ни одной (не пейзажной) картины. И хотя он ссылается на отсутствие специальных знаний, мешающее ему закончить поэмы, главной причиной их незавершенности все же является нечто другое. Во-первых, это объясняется явным преобладанием у Языкова лирического дара над эпическим. Он не владеет повествовательной интонацией. Во-вторых, пытаясь создать романтическую поэму. Языков отталкивается от Пушкина и идет по уже исхоженному и потому не плодотворному пути. Языков, не понявший и не принявший принципиальной новизны пушкинских поэм, пытается противовпоставить в пределах романтизма свой путь, что практически привело его, если судить по первой части “Арана” к следованию русской так называемой байронической традиции. В частности, упомянул Байрона Александр Сергеевич Грибоедов, прочтя первую песнь “Меченосца Арана”, чем вызвал недовольство Языкова. И именно эти замечания заставили поэта задуматься об изменении плана поэмы… Но только в последующие 1830-1840-е годы Языкову удалось овладеть повествовательностью и создать ряд законченных эпических произведений. В этот же период намечается в творчестве Языкова и выход за пределы романтического стиля. Языков оставил Дерпт в 1829 году. Приехав в Москву, он поселился в доме Елагиных – Киреевских, родственников его дерптского приятеля Петерсона. Завязавшаяся в ту пору дружба с этой семьей длилась потом всю жизнь Языкова и имела для него большое значение . Первый год живя в Москве, Языков предполагал сдать экзамен за университет, но вскоре обнаружилось, что у него недостает для этого необходимых документов и достать их теперь невозможно. Поэтому для получения чина Языков в 1831 году поступил в Межевую канцелярию, где до него числились еще два поэта – Вяземский и Баратынский. Писал он в это время очень много и с новым вдохновением. В кругу Киреевских Языкова воспринимали восторженно, и это несомненно способствовало продуктивности его поэтической деятельности. Печатался Языков в “литературной газете”, “Московском вестнике”, альманахе “Денница” Максимовмче, в “Европейце” Киреевского. В 1833 году вышла первая книга стихов Языкова. Появление ее было фактом, значительным не только в биографии Языкова, но и в истории русской поэзии, хотя половина написанного к этому времени Языковым осталась за пределами книги, в том числе лучшие его песни и вообще почти все произведения, вольные в политическом и религиозном отношении (книга к тому же пострадала от цензуры). На этот с борник пришло множество отзывов, среди которых были отзывы Полевого и Киреевского. В том же году вышедший в отставку Языков уехал к себе в Симбирскую губернию, где жил вплоть до 1838 года, лишь изредка наезжая в Москву. Писал он в это время немного; наиболее значительны из этого периода сказки и “Послание к Денису Давыдову”. Еще в Дерпте появились у Языкова признаки тяжелой болезни, напомнившей ему о себе и в Москве. Языков надеялся отдохнуть и полечиться в деревне, однако здороье его все ухудшалось, и в августе 1838 года он, по совету врачей, вынужден был отправиться за границу. Там, переезжая с курорта на курорт, Языков провел пять лет; он был в Мариенбаде, Ганау, Гастейне, Ницце и многих других местах; за границей же познакомился и подружился он с Гоголем, они вместе путешествуют по Италии, вместе проводят зиму 1842-1843 года в Риме. Тоска по родине и видимая бесполезность дальнейшего пребывания за границе заставили Языкова в 1843 году, в момент временного улучшения здоровья вернуться домой, в Москву. На 1830-е – 1840-е годы падает менее трети поэтического наследия Языкова, но стихи этой поры важны в его идейной и художественной эволюции. В целом время московской и заграничной жизни поэта – период известного падения его таланта. Он утрачивает свой пафос, “свет любви”, по выражению Гоголя, с потерей которого “примеркнул и свет его поэзии”. Эту утрату не могут возместить даже некоторые творческие завоевания Языкова, к числу которых следует отнести прежде всего овладение эпическим стилем. “Заметил ли ты, что я стал объективней?” – писал Языков А.Н. Вульфу в марте 1836 года. Первыми законченными произведениями его в повествовательном роде были “Сказка о пастухе и диком вепре” (1835) и драматическая сказка “Жар-птица” (между 1836 и 1838). Этими произведениями Языков принял участие в “сказочном” состязании между Жуковским и Пушкиным, начавшимся еще в 1831 году. Романтику Языкову был чужд реализм Пушкина. Пушкинские произведения 1820-х – начала 1830-х годов кажутся ему прозаическими. Например, о “Полтаве” он говорил, что “ в сей…поэме слишком видное стремление Пушкина описывать и выражаться как можно проще часто вредит поэзии и вводит его в прозу”. Лишенным поэзии он считал и “Евгения Онегина”, и пушкинские сказки. Выступая против реалистичной народности пушкинских сказок, Языков и Баратынский обвиняли Пушкина в том, что он в угоду громко звучащему в те годы требованию народности перелагает в стихи известны фольклорные материалы, не возводя их в “перл создания”: Грех не велик, да не велик и труд! И Языков пишет “Сказку о пастухе и диком вепре”, пародирующую пушкинскую простоту рассказа и действительно (кроме вступления) являющуюся очень близким воспроизведением сказки из сборника “Дедушкины прогулки”. Саму сказку он выбирает “попроще”, якобы для того, чтобы дать простор фантазии, на самом же деле, вероятно, потому, что из всех сказок она наиболее оголена и упрощена по сюжету, незамысловата почти до глупости и может, таким образом, прекрасно демонстрировать неправоту Пушкина, якобы отказывающегося от литературного преобразования народной поэзии. Подчеркивая упрощенность сюжета, Языков не стремится его развивать, строго придерживаясь оригинала. Языкову не удалось по-настоящему выйти за пределы романтизма в драматических сценах “Встреча Нового года” (1840) и “Странный случай” (1846), в которых поэт делает попытку изобразить современную ему дворянскую молодежь. Хотя сцены эти и имеют некоторую биографическую основу (Кубенской и Власьев – образы, близкие самому Языкову), а в тексте их рассыпаны названия книг и имена авторов, любимых и популярных в определенных кругах московской интеллигенции, - живых, современных произведений из них у Языкова не получилось. И только в поэме “Сержант Сурмин” и в сатирической стихотворной повести “Липы” наметился в эпических произведениях Языкова новый метод изображения действительности. Языкова, как Пушкина в 1820-х – начале 1830-х годов, начинают увлекать характеры и обстоятельства, порожденные определенной средой. Появление в творчестве поэта стихотворных повестей – факт типичный для эпохи 1840-х годов. Языков остался в стороне от основной направленности этих повестей: ему чуждо горячее сочувствие судьбе “маленького человека”. Новое, и притом положительно новое, появляется в 1840-е годы и в лучших лирических произведениях Языкова. Искренность и простота выражения составляют своеобразие и прелесть таких его стихотворений, как “Здесь горы с двух сторон стоят, как две стены…”, “Толпа ли девочек, крикливая, живая..”, “Поденщик, тяжело навьюченный дровами…” Эти стихотворения проникнуты подлинным и лишенным социальной окраски чувством. Тоска больного человека на чужбине, его томление переданы правдиво и сильно, в смело почерпнутых из “низкой” действительности образах. Во всех лучших произведениях Языкова приобретенная им простота и обыденность интонации никогда не выглядит отсутствием вдохновения, как во многих посланиях Языкова этого времени, например, к Каролине Павловой (1840, 1841, 1844), Вяземскому, Елагину (1841), Погодину или Иноземцеву (1844). Эти послания, как правило, очень слабы художественно. Вообще же поздние послания поэта демонстрируют главным образом его поэтические утраты. Исчезает энергия стиха и характерный языковский “восторг”, исчезает точность выражения, появляются выражения фальшивые, намеренно хвастливые, простонародные. Вкус начал изменять Языкову…(примеры см. выше) Когда-то Языков шел в одном ряду с Пушкиным, вместе с ним разрушал своей поэтической смелостью отживающие каноны XVIII века, теперь его стихи зачастую перекликаются своей безвкусицей, хотя, возможно, это громко сказано, сос тихами, например, Бенедиктова. В языковом отношении Языков наравне с теми поэтами, которые отказывались от нормализации поэтического языка и от подлинно народных источников его пополняя, обращаясь преимущественно к бытовому просторечию – интеллигентному и мещанскому. Участие Языкова в этом “вавилонском столпотворении”, по выражению Вяземского, конечно, нельзя объяснить только одной потерей пафоса его поэзии. На талант Языкова губительно действовало то новое направление, которое приобретает его поэзия в 1840-х годах. Из-за границы Языков вернулся в Москву в самый разгар боев между славянофилами и “западниками”. Его окружение, симпатии и даже родственные связи в эту пору были уже целиком славянофильскими. Тесная дружба связывала его с братьями Киреевскими, с Хомяковым. Его брат, Петр Языков, также разделял взгляды этого кружка. “Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, - говорит об этом времени Герцен, - а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у Елагиной”. По вторникам сходились у Языкова, но вскоре борьба славянофилов и “западников” приняла настолько ожесточенный характер, что связи между двумя “лагерями” оборвались. В 1844-1846 годах были написаны полемические послания Языкова с грубыми выпадами против Белинского, Герцена, Грановского, в которых прогрессивный лагерь обвинялся в умственном разврате и измене русскому народу. Языков не брезговал даже прямой бранью в адрес “западников”. Ему отвечали статьями Белинский и Герцен. Одновременно в более высоком и отвлеченном роде, в стихах, посвященных назначению поэта и поэзии, он утверждал, что поэт “в годину страха и колебания земли” призван указывать путь спасения в вере (“Землетрясенье”), и призывал мстить безбожным “филистимлянам” (“Сампсон”). |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 05-07-2007 09:31 |
|
Во всех этих произведениях звучали крайнее ожесточение, даже озлобленность. И единомышленники не всегда полностью сочувствовали крайности суждений Языкова и резкости его выражений. Что же касается “западников”, то для них Языков становится идейным врагом. В это же время были изданы две последние книги поэта: “56 стихотворений Н. Языкова” (1844) и “Новые стихотворения” (1845). И хотя полемические стихи не вошли в эти сборники, они сыграли роковую роль в окончательном падении репутации поэта в глазах представителей революционно-демократических общественных кругов 1840-х годов. В статьях Белинского первой половины 1840-х годов постоянно и неодобрительно упоминается имя Языкова; когда же вышли “56 стихотворений”, Белинский в статье “Русская литература в 1844 году” выступил с развернутой характеристикой идейного и художественного значения его творчества. Критик рассматривал не только последние произведения Языкова, но и сборник 1833 года, справедливо обнаруживая уже там некоторые идейные и художественные залоги будущей деградации поэта. Приговор Белинского был слишком суров, - он безусловно справедлив лишь по отношению к последнему периоду творчества Языкова. Не отрицая его таланта, Белинский прежде всего останавливался на слабых сторонах его творчества, особенно проявившиеся в 1830 - 1840-е. Исторической заслугой Языкова он считает лишь поэтическую смелость, которая помогала русской поэзии освободиться от риторики, сентиментального жеманства, подражательности. Недостатки же видит в неряшливости языка, выдаваемой за оригинальность. Вопрос о языке, будучи не самым маловажным, перерастал в вопрос о ценности содержания поэзии Языкова…Языков, впрочем, и сам сознавал глубокое неблагополучие своей поэтической судьбы. В 1842 году, пока “озлобление” против “западников” еще не затемнило окончательно его зрения, он писал брату по поводу статьи Белинского: №Белинский едва ли не прав в рассуждении меня! Я сам чувствую, что я уже далеко не тот, каков был прежде некогда, - и еще дальше не тот, каким бы я должен быть в мои теперешние годы…” К счастью для Языкова, никто, даже он сам, не мог зачеркнуть сделанного им в 1820-е годы. Лучшие его произведения прочно вошли в историю русской литературы и общественной жизни. Его песни и положенные на музыку стихи на протяжение целого столетия пелись демократической и революционно настроенной молодежью. Они распространялись часто безымянно, как подлинно народные произведения, и новые поколения вносилив эти песни свои изменения, приспосабливая их к нуждам освободительной борьбы своего времени. Большой популярностью пользовались в той же среде его “Муза”, “Подражание псалму CXXXVI”, политические элегии (некоторые приписывались Рылееву) Все эти произведения наряду с такими стихотворениями, как “Две картины”, “Тригорское”, “Молитва”, послание к Давыдову (“Жизни баловень счастливый…”), принадлежат к золотому фонду нашей классической лирики. Русской поэзией были усвоены и формальные достижения Языкова, сыгравшего заметную роль в развитии лирического стиха, в формировании нового “высокого” стиля, в обогащении поэтического языка. Лучшее в творческом наследии Языкова и сейчас сохраняет свое живое значение. Энергии и блеску стиха, прекрасному владению песенными ритмами можно учиться у Языкова и в наши дни. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 14 15 16 17 Next>> |
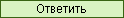
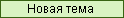
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |