
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 13 14 15 16 17 Next>> |
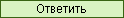
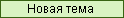
|
| Автор | Сообщение |
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 27-05-2007 22:44 |
|
6 Золотая середина - выражение, принадлежащее самому Горацию. Это он написал, обращаясь к Лицинию Мурене, свойственнику Мецената, такие слова (II, 10): Правильнее жить ты, Лициний, будешь, Пролагая путь не в открытом море, Где опасен вихрь, и не слишком близко К скалам прибрежным. Выбрав золотой середины меру, Мудрый избежит обветшалой кровли, Избежит дворцов, что рождают в людях Черную зависть. Здесь, в оде, Гораций влагает свою мысль в поэтические образы; а в одной из сатир он провозглашает ее в форме отвлеченной, но от этого не менее решительной (I, 1, 106-107): Мера должна быть во всем, и всему есть такие пределы, Дальше и ближе которых не может добра быть на свете! Лициния Мурену, по-видимому, такие наставления не убедили: не прошло и нескольких лет, как он был казнен за участие в заговоре против Августа. Но для самого Горация мысль о золотой середине, о мере и умеренности была принципом, определявшим его поведение решительно во всех областях жизни. Вино? Вот, казалось бы, традиционная поэтическая тема, исключающая всякую заботу о мере и умеренности. Да, - у всех, только не у Горация. Он пишет "вакхические", пиршественные оды охотно и часто, но ни разу не позволяет в них человеку забыться и потерять власть над собой. "Но для каждого есть мера в питье: Либер блюдет предел" (I, 18). А если кто и нарушает эту меру - поэт тотчас разгоняет винные пары своим трезвым голосом: Кончайте ссору! Тяжкими кубками Пускай дерутся в варварской Фракии! Они даны на радость людям - Вакх ненавидит раздор кровавый!.. - и вслед за этим решительным началом такими же энергичными короткими фразами быстро и умело отвлекает буйных застольников на разговор о любви - тему, гораздо более мирную и успокоительную. Правда, есть у Горация оды, где он, на первый взгляд, призывает забыться и неистовствовать - например, знаменитая ода на победу над Клеопатрой (I, 37): "Теперь - пируем! Вольной ногой теперь ударим оземь!" Но будем читать дальше, и все встанет на свои места: до сих пор, говорит Гораций, нам грешно было касаться вина, ибо твердыни Рима были под угрозой; а теперь пьянство в день победы будет для нас лишь законным вознаграждением за трезвость в месяцы войны. И, наоборот, Клеопатра, которая шла на войну, опьяненная "вином Египта", искупает теперь это опьянение вынужденным протрезвлением после разгрома - протрезвлением, которое заставляет ее в ясном сознании принять добровольную смерть. Так, даже временная неумеренность входит в систему всеобщей размеренности и равновесия, столь дорогую сердцу Горация. Любовь? Вот другая тема, в которой поэты обычно стараются дать волю своей страсти, а не умерять и не укрощать ее. Да, - все, только не Гораций. Любовных од у него еще больше, чем вакхических, но чувство, которое в них воспевается, - это не любовь, а влюбленность, не всепоглощающая страсть, а легкое увлечение: не любовь властвует над человеком, а человек властвует над любовью. Любовь, способная заставить человека делать глупости, для Горация непонятна и смешна, и он осмеивает ее в циничной сатире I, 2. Самое большее, на что способен влюбленный в стихах Горация, - это провести ночь на холоде перед дверью неприступной возлюбленной (III, 10); да и это эта ода заканчивается иронической нотой: "Сжалься же, пока я не продрог вконец и не ушел восвояси!" В какую бы Лику, Лиду или Хлою ни был влюблен Гораций, он влюблен лишь настолько, чтобы всегда было можно "уйти восвояси". Когда поэт счастлив и уже готов умереть за свою новую подругу, он тотчас останавливает себя: а что, если вернется страсть к прежней подруге? (III, 9). А когда поэт несчастен и очередная красавица отвергла его, он тотчас находит себе утешение - например, так, как в эподе 15: Больно накажет тебя мне свойственный нрав, о Неэра: Ведь есть у Флакка мужество, - Он не претерпит того, что ночи даришь ты другому, - Найдет себе достойную... Ты же, соперник счастливый, кто б ни был ты, тщетно горлишься, Моим хвалясь несчастием... Все же, увы, и тебе оплакать придется измену: Смеяться будет мой черед! Итак, если Горация отвергла Неэра, он найдет утешение с Гликерой, а когда отвергнет Гликера - то с Лидией, а когда отвергнет Лидия - то с Хлоей, и так далее; и если Горацию пришлось страдать от равнодушия Неэры, то Неэре скоро придется страдать от равнодушия какого-нибудь Телефа, а тому - от равнодушия Ликориды, и так далее. Так радости и горести любви идеально уравновешиваются в сплетении человеческих взаимоотношений, и певцом этой уравновешенности выступает Гораций. Быт? Здесь Гораций особенно подробно и усердно развивает свою проповедь золотой середины. Здесь для него ключевое слово - мир, душевный покой; трижды повторенным словом "мир" начинает он одну из самых знаменитых своих од, к Помпею Гросфу (II, 16). Единственный источник душевного покоя - это довольство своим скромным уделом и свобода от всяких дальнейших желаний: Будь доволен тем, что в руках имеешь, Ни на что не льстись и улыбкой мудрой Умеряй беду. ведь не может счастье Быть совершенным. Наоборот, тот, кто обольщается мечтой о совершенном, полном счастье, кто "от добра добра ищет", тот попадает во власть вечной Заботы (Гораций любит олицетворять это понятие: "И на корабль взойдет Забота, и за седлом примостится конским..."). Ибо у человеческих желаний есть только нижняя граница - "столько, сколько достаточно для утоления насущных нужд"; а верхней границы у них нет, и сколько бы ни накопил золота человек алчный, он будет тосковать по лишнему грошу, и сколько бы ни стяжал почестей человек тщеславный, он будет томиться по новым и новым отличиям. Гораций не жалеет красок, чтобы изобразить душевные муки тех, кто обуян алчностью или тщеславием, кто сгоняет с земли бедняков (II, 18) и строит виллы в море, словно мало места на суше. В своем патетическом негодовании он даже предлагает римлянам выбросить все золото в море и зажить как скифы, без домов и без имущества (III, 24). Но это - в мечтах, а в действительности он вполне доволен скромным маленьким поместьем, где есть все, что нужно для скромной жизни, где не слышно кипенье страстей большого города, где сознание независимости навевает на душу желанный покой, а вслед за покоем приходит Муза, и слагаются стихи (I, 17; II, 16). Как раз такое поместье в Сабинских горах подарил Горацию Меценат, и Гораций благодарит его за эту возможность почувствовать себя свободным человеком: Вот в чем желания были мои: необширное поле, Садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник, К этому лес небольшой! И лучше и больше послали Боги бессмертные мне; не тревожу их просьбою боле, Кроме того, чтобы эти дары мне оставил Меркурий ("Сатиры", II, 6, 1-5) Конечно, не надо преувеличивать скромность Горация: из его сатир и посланий мы узнаем, что в его сабинском поместье (кстати сказать, сравнительно недавно раскопанного археологами) хватало хозяйства для восьми рабов и пяти арендаторов с семьями. Но по римским масштабам это было не так уж много, и любой из знатных римлян, которым Гораций посвящал свои оды и послания, мог похвастаться гоаздо большими имениями. Философия? Гораций говорит о философии много и охотно; по существу, все его сатиры и послания представляют собой не что иное, как беседы на философские темы. Но если так, то какой философской школе следует Гораций? Из философских школ в его пору наибольшим влиянием пользовались две: эпикурейцы и стоики. Эпикурейцы учили, что высшее благо - наслаждение, а цель человеческой жизни - достичь "бестревожности", то есть защитить свое душевное наслаждение от всех внешних помех. стоики учили, что высшее благо - добродетель, а цель человеческой жизни - достичь "бесстрастия", то есть защитить ясность своей души от всех смущающих ее страстей - внутренних помех добродетели. А Гораций? Он ни с теми, ни с другими, или, вернее, и с теми и с другими. Конечно, опытному взгляду легко заметить, что молодой Гораций в "Сатирах" ближе держится эпикурейских положений, а пожилой Гораций в "Посланиях" - стоических; но это не мешает ему включать в "Сатиры" стоическую проповедь раба-обличителя Дава (II, 7), а в одном из "Посланий" отрекомендоваться "поросенком Эпикурова стада" (I, 4). В самом деле, и у стоиков и у эпикурейцев он подмечает и берет только то, что ему ближе всего: культ душевного покоя, равновесия, независимости. В этом выводе обе школы сходятся, и поэтому Гораций свободно черпает свои рассуждения и доводы из арсеналов обеих; если же в каких-то других, пусть даже очень важных, вопросах, они расходятся, то что ему за дело? Если его упрекнут в эклектизме, он ответит словами послания I, 1: Я никому не давал присяги на верность ученью... Независимость духовная для него так же дорога, как независимость материальная, и поэтому он всегда сохраняет за собой свободу мнения, ни за каким философом слепо не следует. а когда желает в своих нравственных рассуждениях сослаться на авторитет, то ссылается не на Эпикура и не на Хрисиппа, а на Гомера ("Послания", I, 2). Искусство? Мы уже видели, как Гораций осуществляет драгоценный принцип золотой середины, равновесия и меры в выверенной гармонии своих од. Это на практике; а теорию своих взглядов он излагает в самом длинном из своих сочинений, в "Науке поэзии". И все это большое и сложное сочинение, своеобразно сочетающее черты дружеского послания и ученого трактата, насквозь пронизано единой мыслью: мера, соразмерность, соответствие. Образы должны соответствовать образам, замысел - силам, слова - предмету, стих - жанру, реплики - характеру, сюжет - традиции, поведение лиц - природе, и так далее; крайности недопустимы, а нужна умеренность, не то краткость обернется темнотой, мягкость - вялостью, возвышенность - надутостью и проч.; и если Гораций, к удивлению читателей и исследователей, подробнее всего говорит в "Науке поэзии" не о близкой ему лирике, а о старинном, полузабытом жанре сатировской драмы, то это потому, что здесь он видел золотую середину между трагедией и комедией. На вопрос: "Пользе или наслаждению служит поэзия?" - Гораций отвечает: "И пользе и наслаждению"; на вопрос: "Талант или учение полезней для поэта?" - он отвечает: "И талант и учение". И как за вином, в любви, в быту Гораций учит не поддаваться страстям, так и в поэзии Гораций учит не полагаться на вдохновение, а терпеливо и вдумчиво отделывать стихи по правилам науки. Стихотворец, ничего не знающий, кроме вдохновения, - смешной безумец; его карикатурным портретом заканчивается "Наука поэзии". Если попытаться подвести итог этому обзору идейного репертуара горациевской поэзии и если задуматься, чему же служит у Горация этот принцип золотой середины, с такой последовательностью проводимый во всех областях жизни, то ответом будет то слово, которое уже не раз проскальзывало в нашем разборе: независимость. Трезвость за вином обеспечивает человеку независимость от хмельного безумия друзей. Сдержанность в любви дает человеку независимость от переменчивых прихотей подруги. Довольство малым в частной жизни дает человеку независимость от толпы работников, добывающих богатства для алчных. Довольство малым в общественной жизни дает человеку независимость от всего народа, утверждающего почести и отличия для тщеславных. "Ничему не удивляться" ("Послания", I, 6), ничего не принимать близко к сердцу, - и человек будет независим от всего, что происходит на свете. Независимость для Горация превыше всего: при всей своей дружбе с Меценатом, он готов отказаться и от этой дружбы, и от подаренного Меценатом имения, едва он замечает, что Меценат за это в чем-то стесняет его свободу ("Послания", I, 7). В огромном волнующемся мире, где все люди и все события связаны друг с другом тысячей связей, Гораций словно старается выгородить себе кусочек бытия, где он был бы ни с кем или почти ни с кем не связан. Даже такой жанр, как сатира, у него становится не связью с обществом, а отталкиванием от общества: это не оружие критики, а средство самосовершенствования (программа, развертываемая в сатирах I, 4 и II, 1). Гораций сторонится мира, ибо там царит всевластная Фортуна, воспетая им самим в оде I, 35; пути ее неисповедимы, под ее ударами рушится то одно, то другое человеческое счастье, и нужно быть очень осторожным, чтобы обломки этих крушений не задели и тебя. Маленький мирок, выгороженный Горацием, где все зримо, вещественно, просто и понятно, служит для него убежищем среди огромного мира, бескрайнего и непонятного. Есть лишь одна сила, от которой нельзя быть независимым, от которой нет убежища. Это - смерть. Именно поэтому мысль о смерти тревожит Горауия так часто и так неотступно. Она примешивается к каждой из его излюбленных лирических тем. Приглашая друга выпить вина на лоне природы, он обращается к нему: "Ты, Деллий, так же ожидающий смерти...". Несговорчивым подругам он рисует черную картину старости, настигающей неуемную Лидию или Лику. Обличая алчного, он напоминает ему, что одна и та же могила ждет в конце концов и ненасытного богача, и ограбленного им бедняка. Зрелище весеннего расцвета навевает ему мысль о вечности природы и о краткости человеческой жизни. Даже в "Науке поэзии", обсуждая такой специальный вопрос, как старые и новые слова в языке, он не может удержаться от лирического излияния: "Смерти подвластны и мы, и недолгие наши созданья..." И это - не говоря о стихах на смерть друзей, не говоря о прославленной оде к Постуму о невозвратно убегающем времени, не говоря об оде, посвященной тому дереву в сабинском поместье, которое однажды едва не убило поэта, обрушившись на тропу рядом с ним (II, 13). Чтобы уберечься от давящих мыслей о смерти, есть лишь один выход: жить сегодняшним днем, не задумываться о будущем, ничего не откладывать на завтра, чтобы внезапная смерть не отняла у человека отложенное. Это и есть принцип "пользуйся днем" (carpe diem), попытка Горация отгородиться от беспокойного будущего так же, как принципом независимости он отгородился от беспокойной современности. Ода к Талиарху и ода к Левконое (I, 9 и 11), где он провозглашает этот принцип, принадлежат к самым популярным его стихотворениям; но, может быть, еще более выразительно высказался он в оде III, 29: Лишь тот живет хозяином сам себе И жизни рад, кто может сказать при всех: "Сей день я прожил! Завтра - тучей Пусть занимает Юпитер небо Иль ясным солнцем, - все же не властен он, Что раз свершилось, то повернуть назад; Что время быстрое умчало, То отменить иль не бывшим сделать... Чтобы преодолеть смерть, победить ее, человеку дано одно-единственное средство: поэзия. Человек умирает, а вдохновенные песни, созданные им, остаются. В них - бессмертие и того, кто их сложил, и тех, о ком он их слагал. Не случайно только что упомянутая ода о рухнувшем дереве заканчивается картиной царства теней, где продолжают петь свои песни Алкей и Сапфо, и где от звуков их лир замирает мир подземных чудовищ и унимаются адские муки. Не случайно Гораций всюду говорит о поэзии торжественно и благоговейно: ведь она делает поэта равным богам, даруя ему бессмертие и позволяя обессмертить в песнях друзей и современников. И не случайно свой первый сборник од из трех книг он завершает гордым утверждением собственного бессмертия - знаменитым "Памятником": Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пирамид выше поднявшийся. Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой Не разрушат его, не сокрушит и ряд Нескончаемых лет, - время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня Избежит похорон. Буду я вновь и вновь Восхваляем, доколь по Капитолию Жрец верховный ведет деву безмолвную. Назван буду везде - там, где неистовый Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем Был у грубых селян. Встав из ничтожества, Первым я приобщил песню Эолии К италийским стихам. Славой заслуженной, Мельпомена, гордись, и, благосклонная, Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 27-05-2007 22:44 |
|
7 Итак, облик лирического героя Горация дорисован. Это маленький человек среди большого мира, из конца в конец волнуемого непостижимыми силами судьбы. В этом мире поэт выгораживает для себя кусочек бытия, смягчает власть судьбы над собою отказом от всего, что делает его зависимым от других людей и от завтрашнего дня, и начинает спорить с миром, подчинять его себе, укладывать его бескрайний противоречивый хаос в гармоническую размеренность и уравновешенность своих од. Из этой борьбы за ясность, покой и гармонию он выходит победителем, и эта победа дает ему право на бессмертие. Такой образ мира и образ человека мог сложиться в поэзии лишь в обстановке сложной, своеобразной и неповторимой эпохи. Об этой эпохе мы и должны сказать теперь несколько слов. Неверно представлять себе античность единым и цельным куском мировой истории. Она распадается, по крайней мере, на два периода, больших и непохожих друг на друга: период полисов и период великих держав. Полисы - это маленькие города-государства, каждое величиной с какой-нибудь район Московской области, каждое с населением по нескольку десятков тысяч полноправных граждан, независимых, замкнутых, где все, можно сказать, знают друг друга и сами решают общие дела, а обо всем, что лежит за пределами их полиса и близко его не касается, заботятся мало; все общественные отношения, все причины и следствия событий в общественной и личной жизни каждого здесь ясны как на ладони. Такими полисами были Афины, Спарта и другие греческие города в VI - IV веках до н.э., в пору жизни Архилоха и Алкея, Софокла и Еврипида, Платона и Аристотеля; таким полисом был Рим в древние времена крестьянской простоты, о которых не устает тосковать Гораций. Но рабовладельческое хозяйство развивалось, ему становилось тесно в узких рамках полиса, оно взламывало эти рамки и создавало над их обломками огромные державы с единой монархической властью, централизованным управлением, сложной экономикой и политикой. Таковы были греко-македонские царства, возникшие из мировой державы Александра Македонского к концу IV века до н.э. и постепенно поглощенные новой мировой державой, Римом, к концу I века до н.э. - как раз ко времени жизни и творчества Горация. В новых великих державах человеку жилось богаче, сытней и уютней, чем в скудной простоте полиса. Однако это материальное довольство было куплено ценой душевных тревог, неведомых жителю полиса. Теперь он не был гражданином, а подданным, его политическая жизнь определялась не его волей, а неведомыми замыслами монарха и его советников, его хозяйственное благосостояние определялось таинственными колебаниями мировой экономики. Нити судьбы ускользали из его рук и терялись в неуследимой дали. Человек чувствовал себя одиноким и потерянным в этом бесконечно раскинувшемся мире, где больше ни на что нельзя было положиться, и он тосковал по былым временам полисного быта, когда жизнь была беднее и скуднее, но зато понятней и проще. Не это ли горькое чувство подсказало Горацию его оду, особенно странно звучащую для нынешнего читателя: ту, в которой он проклинает любскую пытливость, рвущуюся вдаль и вдаль сквозь преграды земли, моря и неба, проклинает Прометея и Дедала, внушивших людям эту роковую дерзость (I, 3): ... Дерзко рвется изведать все, Не страшась и греха, род человеческий... Нет для смертного трудных дел: Нас к самим небесам гонит безумие. Нашей собственной дерзостью Навлекаем мы гнев молний Юпитера. Этот болезненный перелом от старого мироощущения к новому был особенно болезнен в Риме в I веке до н.э. - в то самое время, когда там жил и писал свои стихи Гораций. Ибо в Риме идеологический переворот сопровождался политическим переворотом - тем, что нынешние историки называют "переходом от республики к империи". На этих словах приходится остановиться. Дело в том, что мы привыкли безоговорочно считать, что всякая республика - благо, а всякая монархия - зло. Это наивно и часто неверно. В особенности это неверно применительно к Риму I века до н.э. Чем была здесь республика? Господством нескольких десятков аристократических семей, прибравших к рукам все лучшие земли в Италии и все места в правящем сенате. Это была форма полисного строя: Рим давно уже владел половиной Средиземноморья, но в глазах сенатской олигархии все эти территории были не частью мировой державы, а военной добычей римского полиса, и единственной формой управления ими был организованный грабеж. Что дала Риму империя? Наделение землею сравнительно широкого слоя безземельного крестьянства, обновление сената за счет выходцев из непривилегированных сословий, допуск провинциалов к управлению державой. Пересмотрим имена адресатов од и посланий Горация: все это - новые люди, которые при олигархической республике и мечтать не могли об участии в государственных делах. Таков и безродный Агриппа, второй после Августа человек в Риме, таков и безродный Меценат (хотя он и притворяется, что род его восходит к неведомым этрусским царям), таков и сам Гораций, сын вольноотпущенного раба, который никогда не мог бы пользоваться при республике таким вниманием и уважением, как при Августе. Переход от республики к империи в Риме был событием исторически прогрессивным, - единогласно говорят историки. У империи было множество и темных сторон, но раскрылись они лишь позднее. А современники? Для них дело обстояло еще проще. Это могло бы показаться странным и нелепым, но это так: современники вовсе не заметили этого перехода от республики к империи. Для них еще при Августе продолжалась республика. И их можно понять. Будущего Римской державы они не знали, не знали, что история ее отныне пойдет по совсем другому пути, чем шла до сих пор; они знали только прошлое и настоящее и не замечали между ними никакой существенной разницы. По-прежнему в Риме правил сенат, по-прежнему каждый год избирались консулы, а в провинции посылались наместники; а если рядом с этими привычными республиканскими учреждениями теперь всюду замечалось присутствие человека по имени Цезарь Октавиан Август, то это не потому, что он занимал какой-то особый новый государственный пост, - этого и не было, - а просто потому, что он лично, независимо от занимаемых им постов и должностей, пользовался всеобщим уважением и высоким авторитетом за свои заслуги перед отечеством. Кто, как не он, восстановил в Римме твердую власть и сената и консулов, положив конец тем попыткам заменить их неприкрытой царской властью, какие предпринимал сперва его приемный отец Гай Юлий Цезарь, а потом его недолгий соправитель Марк Антоний? Кто, как не он, восстановил в Риме мир и порядок, положив конец тому столетию кровавых междуусобиц, которое вошло в историю как "гражданские войны в Риме"? Нет, современники - и первым среди них Гораций - были вполне искренни, когда прославляли Августа как восстановителя республики. Жестокие междуусобицы гражданский войн были очень хорошо памятны поколению Горация. Поэт родился в 65 году до н.э. В детстве, в тихом южноиталийском городке Венузии, он мог слышать от отца, сколько крови пролилось в Италии, когда сенатский вождь Сулла воевал с плебейским вождем Марием, и скольку страху нагнал на окрестных помещиков мятежный Спартак, с армией восставших рабов два года грозивший Риму. Подростком в шумном Риме, в школе строгого грамматика Орбилия, Гораций со сверстниками жадно ловил вести из-за моря, где в битвах решался исход борьбы между дерзко захватившим власть Гаем Юлием Цезарем и сенатским вождем Гнеем Помпеем. Юношей Гораций учился философии в Афинах, когда вдруг разнеслась весть о том, что Юлий Цезарь убит Брутом и его друзьями-республиканцами, что мстить за убитого поднялись его полководец Антоний и его приемный сын Цезарь Октавиан, что по Италии бушуют резня и конфискации, а Брут едет в Грецию собирать новое войско для борьбы за республику. Гораций был на распутье: социальное положение толкало его к цезарианцам, усвоенное в школе преклонение перед республикой - к Бруту. Он примкнул к Бруту, получил пост войскового трибуна в его армии, - высокая честь для 23-летнего безродного юноши! - а затем наступила катастрофа. В двухдневном бою при Филиппах в 42 году до н.э. республиканцы были разгромлены. Брут бросился на меч, Гораций спасся бегством, тайком, едва не погибнув при кораблекрушении, вернулся в Италию; отца уже не было в живых, отцовская усадьба была конфискована, Гораций с трудом устроился на мелкую должность в казначействе и стал жить в Риме в кругу таких же бездольных и бездомных молодых литераторов, как и он, с ужасом глядя на то, что происходит вокруг. А вокруг бушевала гражданская война: на суше восстал город Перузия и был потоплен в крови, на море восстал Секст Помпей, сын Гнея, и с армией беглых рабов опустошал берега Италии. Казалось, что весь огромный мир потерял всякую опору и рушится в безумном светопреставлении. Среди этих впечатлений Гораций пишет свои самые отчаянные произведения - седьмой эпод: Куда, куда вы валите, преступные, Мечи в безумье выхватив?! Неужто мало и полей, и волн морских Залито кровью римскою?.. - и шестнадцатый эпод - скорбные слова о том, что Рим обречен на самоубийственную гибель, и все, что можно сделать, - это бежать, чтобы найти где-нибудь на краю света сказочные Счастливые острова, до которых еще не достигло общее крушение: Слушайте ж мудрый совет: подобно тому как фокейцы, Проклявши город, всем народом кинули Отчие нивы, дома, безжалостно храмы забросив, Чтоб в них селились вепри, волки лютые, - Так же бегите и вы, куда б ни несли ваши ноги, Куда бы ветры вас ни гнали по морю! Это ли вас по душе? Иль кто надоумит иначе? К чему же медлить? В добрый час, отчаливай!.. Но Счастливые острова были мечтой, а жить приходилось в Риме, где власть крепко держал в руках Цезарь Октавиан (после битвы при Филиппах он поделил власть с Антонием: Антоний отправился "наводить порядок" на Востоке, Октавиан - в Риме). Гораций начинает присматриваться к этому человеку, и с удивлением открывает за его разрушительной деятельностью созидательное начало. Осторожный, умный, расчетливый и гибкий, Октавиан именно в эти годы закладывал основу своего будущего могущества: на следующий год после Филиппов он был ужасом всего Рима, а десять лет спустя уже казался его спасителем и единственной надеждой. Разделив конфискованные земли богачей между армейской беднотой, он сплотил вокруг себя среднее сословие. Организовав отпор беглым рабам - пиратам Секста Помпея, он сплотил вокруг себя все слои рабовладельческого класса. Выступив против своего бывшего соправителя Антония, шедшего на Италию в союзе с египетской царицей Клеопатрой, он сплотил вокруг себя все свободное население Италии и западных провинций. Победа над Антонием в 31 году до н.э. была представлена как победа Запада над Востоком, порядка над хаосом, римской республики над восточным деспотизмом. Гораций прославил эту победу в эподе 9 и в оде I, 37. Гораций уже несколько лет как познакомился, а потом подружился с Меценатом, советником Октавиана по дипломатическим и идеологическим вопросам, собравшим вокруг себя талантливейших из молодых римских поэтов во главе в Вергилием и Варием; Гораций уже получил от Мецената в подарок "сабинскую усадьбу", и она принесла ему материальный достаток и душевный покой; Гораций уже стал известным писателем, выпустив в 35 году до н.э. первую книгу сатир, а около 30 г. - вторую книгу сатир и книгу эподов. Как и для всех его друзей, как и для большинства римского народа Октавиан был для него спасителем отечества: в его лице для Горация не империя противостояла республике, а республика - анархии. Когда в 29 году до н.э. Октавиан с торжеством возвращается с Востока в Рим, Гораций встречает его одой I, 2 - одой, которая начинается грозной картиной того, как гибнет римский народ, отвечая местью на месть за былые преступления, от времен Ромула до времен Цезаря, а кончается светлой надеждой на то, что теперь эта цепь самоистребительных возмездий наконец кончилась и мир и покой нисходит к римлянам в образе бога благоденствия Меркурия, воплотившегося в Октавиане. С этих пор образ Октавиана (принявшего два года спустя почетное прозвище Августа) занимает прочное место в мировоззрении Горация. Как человек должен заботиться о золотой середине и равновесии в своей душе, так Август заботится о равновесии и порядке в Римском государстве, а бог Юпитер - во всем мироздании; "вторым после Юпитера" назван Август в оде I, 12, и победа его над хаосом гражданских войн уподобляется победе Юпитера над хаосом бунтующих Гигантов (III, 4). И как Ромул, основатель римского величия, после смерти стал богом, так и Август, восстановитель этого величия, будет причтен потомками к богам (III, 5). Возрождение римского величия - это, прежде всего, восстановление древней здоровой простоты и нравственности в самом римском обществе, а затем - восстановление могущества римского оружия, после стольких междуусобиц вновь двинутого для распространения римской славы до краев света. В первой идее находит завершение горациевская проповедь довольства малым, горациевское осуждение алчности и тщеславия; теперь оно иллюстрируется могучими образами древних пахарей-воинов (III, 6; II, 15), с которых призвано брать пример римское юношество (III, 2). Во второй идее находит выражение тревожное чувство пространства, звучащее в вечном горациевском нагромождении географических имен: огромный мир уже не пугает поэта, если до самых пределов он покорен римскому народу. Обе эти идеи роднят Горация с официальной идеологической пропагандой августовской эпохи: Август тоже провозглашал возврат к древним республиканским доблестям, издавал законы против роскоши и разврата, обещал войны (так и не предпринятые) против парфян на Востоке и против британцев на Севере. Но было бы неправильно думать, что эти идеи были прямо подсказаны поэту августовской пропагандой: мы видели, как они естественно вытекали из всей системы мироощущения Горация. В этом и была особенность поэзии краткого литературного расцвета при Августе: ее творили поэты, выросшие в эпоху гражданских войн, идеи нарождающейся империи были не навязаны им, а выстраданы ими, и они воспевали монархические идеалы с республиканской искренностью и страстностью. Таков был и Гораций. Три книги "Од", этот гимн торжеству порядка и равновесия в мироздании, в обществе и в человеческой душе, были изданы в 23 году до н.э. Горацию было сорок два года. Он понимал, что это - вершина его творчества. Через три года он выпустил сборник посланий (нынешняя книга I), решив на этом проститься с поэзией. Сборник был задуман как последняя книга, с отречением от писательства в первых строках и с любовным поэтическим автопортретом - в последних. Это было неожиданно, но логично. Ведь если цель поэзии - упорядочение мира и установление душевного равновесия, то теперь, когда мир упорядочен и душевное равновесия достигнуто, зачем нужна поэзия? Страсть к сочинительству - такая же опасная страсть, как и другие, и она тоже должна быть исторгнута из души. А кроме того, ведь всякий поэт имеет право (хотя и не всякий имеет решимость), написав свое лучшее, больше ничего не писать: лучше молчание, чем самоповторение. Гораций хотел доживать жизнь спокойно и бестревожно, прогуливаясь по сабинской усадьбе, погруженный в философские раздумья. Но здесь и подстерегала его самая большая неожиданность. Стройная, с таким трудом созданная система взглядов вдруг оказалась несостоятельной в самом главном пункте. Гораций хотел в помощью Августа достигнуть независимости от мира и судьбы; и он достиг ее, но эта независимость от мира теперь обернулась зависимостью от Августа. Дело в том, что Август вовсе не был доволен тем, что лучший поэт его времени собирается в расцвете сил уйти на покой. Он твердо считал, что стихи пишутся не для таких малопонятных целей, как душевное равновесие, а для таких простых и ясных, как восхваление его, Августа, его политики и его времени. И он потребовал, чтобы Гораций продолжал заниматься своим делом, - потребовал деликатно, но настойчиво. Он предложил Горацию стать своим личным секретарем - Гораций отказался. Тогда он поручил Горацию написать гимн богам для величайшего празднества - "юбилейных игр" 17 года до н.э.; и от этого поручения Гораций отказаться не мог. А потом он потребовал от Горация од в честь побед своих пасынков Тиберия и Друза над альпийскими народами, а потом потребовал послания к самому себе: "Знай, я недоволен, что в стольких произведениях такого рода ты не беседуешь прежде всего со мной. Или ты боишься, что потомки, увидев твои к нам близость, сочтут ее позором для тебя?" Империя начинала накладывать свою тяжелую руку на поэзию. Уход Горация в философию так и не состоялся. Тяжела участь поэта, который хочет писать и лишен этой возможности; но тяжела и участь поэта, который не хочет писать и должен писать против воли. И юбилейный гимн, и оды 17-13 годов до н.э., составившие отдельно изданную IV книгу од, написаны с прежним совершенным мастерством, язык и стих по-прежнему послушны каждому движению мысли поэта, но содержание их однообразно, построение прямолинейно, и пышность холодна. Как будто для того, чтобы смягчить эту необходимость писать о предмете чужом и далеком, Гораций все чаще пишет о том, что ему всего дороже и ближе, - пишет стихи о стихах, стихи о поэзии. В IV книге этой теме посвящено больше од, чем в первых трех; в том послании, которое Гораций был вынужден адресовать Августу (II, 1), он говорит не о политике, как этого, вероятно, хотелось бы адресату, а о поэзии, как этого хочется ему самому; и в эти же последние годы своего творчества он пишет "Науку поэзии", свое поэтическое завещание, обращенное к младшим поэтам. Слава Горация гремела. Когда он приезжал из своего сабинского поместья в шумный, немилый Рим, на улицах показывали пальцами на этого невысокого, толстенького, седого, подслеповатого и вспыльчивого человека. Но Гораций все более чувствовал себя одиноким. Вергилий и Варий были в могиле, кругом шумело новое литературное поколение - молодые люди, не видавшие гражданских войн и республики, считавшие всевластие Августа чем-то само собой разумеющимся. Меценат, давно отстраненный Августом от дел, доживал жизнь а своих эсквилинских садах; измученный нервной болезнью, он терзался бессонницей и забывался недолгой дремотой лишь под плеск садовых фонтанов. Когда-то Гораций обещал мнительному другу умереть вместе с ним (II, 17): "Выступим, выступим в тобою вместе в путь последний, вместе, когда б ты его ни начал!" Меценат умер в сентябре 8 года до н.э.; последними его словами Августу были: "О Горации Флакке помни, как обо мне!" Помнить пришлось недолго: через три месяца умер и Гораций. Его похоронили на Эсквилине рядом с Меценатом. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 27-05-2007 22:47 |
| знаю, знаю лучше в малых порциях, но столь велик соблазн | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 28-05-2007 08:48 |
А как устоять против соблазна? |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 28-05-2007 23:24 |
| а надо ли устаивать? | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-05-2007 08:42 |
|
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ШЕМЯКИНА Художник в Зазеркалье Поначалу я испытываю некоторые трудности с выбором жанра. В конце концов останавливаюсь на жанре портрета, а точнее "профиля", как отчеканил блестящий мастер этого рода художественной критики Абрам Эфрос. Интересно, вспоминал ли Эфрос, называя свою книгу "Профили", - "мысли в профиль" одного из братьев Шлегелей? А мне поначалу так и представляется - набросать абрис художника, которого я люблю заочно три с половиной десятилетия, а последние годы, уже здесь, в Америке, сдружился. Пусть не фас, хотя бы профиль. Однако первая наша встреча произошла в пути, а так уж повелось, что все самое значительное в моей жизни случается в дороге, и самые сокровенные мысли и чувства я доверю "путевой" прозе, будь то рассказ, роман, эссе или исследование. Даже замысел книги о Ельцине возник у нас с Леной Клепиковой во время возвратного путешествия на нашу географическую родину. На этот раз на нашей старенькой "Тойоте Камри", которую моя спутница ласково называет "тойотушкой", мы отправились в трехдневное путешествие по долине Гудзона. В роскошных владениях Вандербилтов, среди высоких елей и пихт, на усыпанной коричневыми иглами земле, обнаружили с десяток чистейших белых, и еще несколько нашли в трех милях отсюда, на соседней, куда более скромной усадьбе ФДР, как именуют Франклина Делано Рузвельта в Америке, - аккурат рядышком с могилой 32-го президента США. В штатном заповеднике Таконик, по дороге к водопаду, подсобрали еше дождевиков, которыми в России почему-то пренебрегают, хотя в жареном виде у них сладкая и нежная, как крем, глеба, да еще похожих на опята и так же растущих большими стайками вокруг пней пластинчатых грибов, которые, как выяснилось из справочника, именуются "псатиреллой каштановой" - оказались вполне доброкачественные грибы. Плюс дикие шампиньоны, которые куда вкуснее тех, что выращиваются в парниках и продаются в магазинах. Я - страстный грибник, и такое расширение грибного кругозора, понятно, веселило мое сердце. Вдобавок виды на Гудзон, гениально воспетый в моем любимом у Стивенсона романе "Владетель Баллантрэ", раскиданные по холмам фермы с силосными башнями и прелестные голландские и немецкие городки со старыми "иннами" и церквами без счету. Это был любезный мне мир, узнаваемый и реальный, а из него, в последний день путешествия, я попал в мир странный, неожиданный, сказочный. Представьте мрачный замок на холме, словно ожившая декорация готического романа либо хичкоковского "Психоз", а окрест, сколько хватает глаз, на усадебных буграх и по низине расставлены скульптуры, одна диковинней другой: огромный скалозубый череп, голый господин со знакомым лицом в пенсне, четырехликий всадник на коне - то ли рыцарь в доспехах, то ли обтянутый сухожилиями скелет с пенисом в виде кабаньей головы, кривляющиеся шуты, наконец, Некто огромный, как Голем, с маленькой головой истукана на плечах. И повсюду - по периметру статуйных пьедесталов, на стенах или просто на земле - ослепительного мастерства барельефы-натюрморты, где бронзовая скатерть струится и морщится в складках почище иных голландских штук, где бронзовый чеснок дольчат, а хлеб ситчат, как в мягкой краске, и где предметы из стекла, камня и дерева пластичны и текучи в своей изначальной органике. На самом окаеме этого, как любит выражаться его хозяин, метапространства - кладбище: три кошачьи и одна собачья могилы с трогательными эпитафиями (что касается живых зверей, их ровно дюжина - поровну котов и собак). Сам ландшафт олеографичен, мемориален, с привкусом русской истории и даже географии: северного типа ивы, показывающие в этот, сильно с ветром, осенний денек свое изнаночное серебро, легендарно раскидистый дуб и скамья под ним, беседка, пруд, болотистая низина - как панорама в Павловске или михайловские ведуты с холма, где господское имение. А вот и хозяин - боевые шрамы на лице, полученные, по его словам, при сварке (а не нанесенные самолично, как утверждает в очередной своей "лимонке" понятно кто), удивительная детская, слегка лукавая улыбка, в зубах голландская трубка с длинным чубуком, камуфляж американских коммандос, высокие сапоги. Кого он напоминает? Кота в сапогах? Волшебника изумрудного города? Если идти по пути не поверхностно-объективных, но субъективных, то есть глубинных аналогий, то больше всего, как ни странно - Алешу Карамазова. С поправкой на возраст, конечно. То, что у того по сюжету романа - в будущем, у Михаила Шемякина по жизненному сюжету - в прошлом: в тайных и недоступных всевидящему оку гэбухи скитах в Сванетии, а спустя несколько лет в Псково-Печерском монастыре скрывался он от собственных страхов, служа послушником. Алешакарамазовская аналогия преследует меня с тех пор постоянно при встречах с хозяином этого замка, который одновременно усадьба, музей, архив, библиотека, мастерская и убежище. Вот именно: убежище, то есть крепость в том смысле, что мой дом - моя крепость. Третий скит в его жизни, где он прячется от мировой галды и где, как Св. Антонию, являются ему видения, которые он переносит на холст, на лист, в скульптурный материал. Нет, он далеко не анахорет, путешествует по белу свету вместе со своими работами (Венеция, Париж, Москва, Петербург, Токио и, конечно же, Нью-Йорк), встречается с друзьями и журналистами, и тем не менее ведет одинокую трудовую жизнь, работая иногда сутки кряду. Даже телевизор заперт на замок - чтоб не отвлекаться. По словам этого запойного уоркоголика, нигде ему так хорошо не работалось, как здесь, в Клавераке. Он вычитал про эти места по другую сторону океана, еще 13-летним подростком, у Вашингтона Ирвинга, а потом вымечтал, да так что ему приснился никогда не виденный гудзонский пейзаж, и сквозь сон, чтоб не забыть наутро, он записывал его колеры на обоях своей ленинградской комнаты. И вот, спустя три десятилетия, ночное видение материализовалось, он купил этот замок, который в прошлом веке принадлежал консерватории, а теперь скульптурная мастерская, вместе с прилегающим к нему болотом, которое высушил, разбил на его месте парк и превратил в музей скульптурных объемов под открытым небом. Комары, впрочем, до сих пор кружат над статуями - из генетической ностальгии, наверно, по своей исторической родине. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-05-2007 08:43 |
|
Всякий раз, бывая здесь, заново поражаюсь обширности шемякинских владений. Однажды вслух. В ответ слышу - и диву даюсь - что Шемякин, мечтал бы прикупить соседнюю территорию, таких же приблизительно размеров, со своими холмами и своим прудом - зеркальное отражение шемякинской. - Будете как Алиса в Зазеркалье. Еще одно метапространство? - Не еще одно, а одно единое. Гигантомания? Скорее гигантомахия, потому что объединенное метапространство Шемякин освоит, обживет и заселит монументальными скульптурами - подстать здешним просторам. И тогда замкнется литературно-историческая перспектива. Конец перспективы? Или наоборот: шемякинский парк станет чем-то наподобие расположенных по соседству и "национализированных" усадеб Вандербилтов, Рузвельтов и иных американских знаменитостей? Почему тогда не быть музею под открытым небом имени Михаила Шемякина? Как и у Алеши Карамазова (а прежде у его создателя - Достоевского), у Шемякина было жутковатое детство: измывательства пьяного отца над матерью, детские страхи. - Мое детство - это беспробудная темная ночь, залитая кровью. Больше всего я в детстве боялся, как все мальчики, которые больше любят мать, чем отца, что отец убьет мать. Он ее зверски избивал, часто это кончалось выстрелами. Нам приходилось вылетать в окно, когда он хватал шашку и начинал рубить все подряд: платья матери, потом шкафы, зеркала... Далее - точь-в-точь как у Достоевского - место отца занимает государство: Шемякина исключают из СХШ (Средней Художественной Школы) с волчьим билетом, заталкивают в дурдом и подвергают экспериментальному лечению, в результате которого и в самом деле он на какое-то время шизееет - после освобождения накатывают острые приступы депрессии, преследуют панические страхи, аллергия к запаху красок, работать не может, прячется, забившись, под кроватью. Одна из его фобий: "Почему так много людей живет на свете?" Бежит на Кавказ, пытаясь на природе выкачать из себя ту химию, которой его накачали в психушке. Но и год спустя, когда вернулся, ужас не оставляет его: умаливает мать спать у него в мастерской, обвязывает голову полотенцем, чтобы от страха пот не заливал глаза, как только брался за краски - так действовали на него психотропные средства, которыми его пытались "вылечить" от искусства. А для него, наоборот, возвращение к краскам и карандашу - род самопсихоанализа. Вот откуда его апокалиптические видения, его рыла и монстры - весь жуткий паноптикум его образов. Изображая, он освобождается от них. Точнее пытается освободиться, а они упорно возвращаются к нему. Хотя с того дурдомовского опыта много воды утекло после его двойной эмиграции - сначала изгнание из России, а потом бегство из Франции в Америку - Шемякин тем не менее испытывает рецидив страха, когда в 1989 году, с американским паспортом в кармане, приезжает в Россию: - Мандраж был, хоть и шла перестройка. Преодолеем, однако, соблазн обратиться к психоаналитическим схемам - дабы избежать упрощений и редукционизма. Ограничимся художественными аналогиями. Те же, к примеру, "Капричос" Гойи, с помощью которых тот боролся с ночными видениями, перенося на бумагу. Именно их и помянет Эрнст Неизвестный в разговоре с Шемякиным: "Ты даешь зрителю подслащенную пилюлю. На твоих картинах цвет ликует, а внутри - мрак. Если твои карнавалы перевести в черно-белый цвет - "Капричос" Гойи получится!" - И он, наверно, прав, - комментирует Шемякин. - Многое в моих работах искупается цветом, получается театрально-мажорная маска. А мой сын определил Шемякина, как Гойю, попавшего в страну чудес. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-05-2007 08:45 |
|
Будучи в Токио, зашел Шемякин в антикварный магазин, где прикипел глазом к старым чашечкам, в трещинках. Стал прицениваться - ушам своим не поверил: тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч долларов. Чем больше трещинок, тем дороже. Потому что трещина - это само время. Приобрел дешевую - за пять тысяч. При переезде из Сохо в Клаверак поручил упаковать свою коллекцию квалифицированным рабочим. В Клавераке стал разбирать прибывшие вещи - японской чашечки нет. Как в воду канула. Спрашивает рабочих - те не понимают, о чем речь: что еще за чашечка? Шемякин срочно помчался в Сохо и на подоконнике, рядом с банками из-под пива, таки нашел надтреснутую чашечку, а в ней окурки. Пятитысячную эту чашечку работяги пользовали в перекур под пепельницу. Можно ли им за это пенять? Дело не в их культурном невежестве, но в разных художественных критериях Запада и Востока. Художник-космополит Шемякин полагает возможным их если не объединить, то сопоставить. Это к вопросу о треснутых фактурах на его натюрмортах с бутылями и коконами. Искусство для искусства? Лаборатория творчества? А что есть Хлебников или Малевич, Кандинский или Филонов? Формальные задачи по сути своей семантичны. Во власти художника "музыку разъять, как труп", сведя зримое к простейшим элементам. Есть такая латинская формула - membra disjecta, разъятые члены. Разъятие, разъединенность - конечно же, аналитического свойства. В отличие от пушкинского Сальери, Шемякину удается, однако, "поверив алгеброй гармонию", сохранить последнюю и как бы даже возвести на новый, метафизический уровень. Среди белых полотен в его "Гармонии в белом", в самом центре - сплошь черное полотно, абсолют черного. Однако если внимательней вглядеться, обнаруживаешь фактурные очертания черной бутыли на черном фоне. Это своего рода замковый камень ко всей инсталляции, которая выглядела бы монотонно без этого траурного полотна: черная вспышка взрывает композицию выставки и одновременно центрирует, цементирует, держит ее. Редко у кого так слиты воедино анализ и синтез, мысль и пластика. Именно из этих изначальных атомов, на которые он разбирает зримый мир, Шемякин тут же собирает и скрепляет новое художественное целое. Как ни велик у меня страх перед тавтологией, напомню все-таки о классической гегелевской триаде: теза, антитеза, синтез. Элохимы, как известно, творили людей по своему образу и подобию. Гете перевернул эту формулу, объявив человека творцом богов по своему образу и подобию. Дальше всех, однако, пошел Спиноза: "Треугольник, если б мог говорить, сказал бы, что бог чрезвычайно треуголен." Так вот, подобно треугольному богу Спинозы, у Шемякина, который считает, что искусство возникает изнутри геометрических форм, бог - округлый, будь то земная биосфера или свисающий с лозы кокон, женская грудь или череп. Кстати, "бога бабочек" он изображает в виде чешуекрылого существа. Чем не метафора на тему Спинозы? Пример рационально-чувственного искусства Шемякина - многогрудая, безрукая, четырехликая Кибела, застывшая, как часовой, на тротуаре перед входом в галерею Мими Ферст и ставшая уже символическим обозначением ньюйоркского Сохо. Сама новация этой статуи - в обращении к традиции, но не ближайшей, а далековатой, архаической, забытой, невнятной, таинственной. До сих пор археологи и искусствоведы гадают, почему малоазийцы избрали богиней плодородия девственницу Артемиду, которая была такая дикарка и недотрога, что превратила Актеона, подглядевшего ее голой во время купания, в оленя и затравила его собственными псами. В самом деле, как сочетается девство и плодородие? Есть даже предположение, что три яруса грудей у Артемиды в Эфесском храме - вовсе не груди, на них даже нет сосков, а гирлянды бычьих яиц, которыми прежде украшали ее статуи, а потом стали изображать вместе с мужскими причиндалами оскопленных быков. Отталкиваясь от древнего и загадочного образа, Шемякин дает ему современную форму и трактовку. У его Кибелы груди самые что ни на есть натуральные, недвусмысленные, с сосками, они спускаются, уменьшаясь, по огромным бедрам чуть ли не до колен. По контрасту с этими бедрами - тонкая талия, античная безрукость, юное лицо, обрамленное звериными масками. Я бы бы не рискнул назвать это символическим образом женщины, но скорее непреходящим - мужским и детским одновременно - удивлением художника перед самим явлением женщины - телесной и духовной, зрелой и девственной, мощной и беззащитной. Дуализм эстетического восприятия полностью здесь соответствует сложной, противоречивой природе самого объекта. Переводя изобразительную метафору в словесную, я назову "Кибелу" Шемякина одновременным образом матери-жены-дочери. В мифологическом же плане этот образ - в одном ряду с шестикрылым серафимом или многоруким Шивой: умножаясь, количество дает в конце концов новое качество. Хоть Шемякин и концептуальный художник, чьи произведения не только смотришь, но и читаешь, перекоса в рассудочность и литературность у него почти не случается. Он чужд прямоговорению, его мысль существует в художественном контексте - возникая изнутри искусства, на возвратном пути придает ему дополнительную метафорическую мощь. Не помню, кому принадлежит это наивное высказывание: жизнь - фарс для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. А как быть с теми, у кого оба эти процесса - эмоциональный и мыслительный - идут одновременно, не в параллель друг другу, а пересекаясь и снова расходясь? Вот причина трагедийно-фарсовой окраски шемякинского искусства: думая, он чувствует, а чувствуя - думает. Я бы даже сказал, что он думает, страдая, - в пушкинском опять же смысле: Я жить рожден, чтоб думать и страдать. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-05-2007 08:47 |
| Есть смысл продолжить в скульптуре. Все думала, зачем я это сюда. Оказалось - есть рефрен, есть)) | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 29-05-2007 12:11 |
Не а |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 29-05-2007 12:18 |
Всегда приятно читать о Шемякине. Хоть здесь Хоть в скульптуре |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 06-06-2007 09:04 |
|
Новалис. Музыка рассеяла стеснение и вовлекла всех в веселую игру. Пышные корвины цветов благоухали на столе, и вино порхало между блюдами и цветами; потряхивая своими золотыми крыльями, оно ставило пестрые перегородки между внешним миром и пирующими. Теперь только Гейнрих понял, что такое пир. Ему казалось, что тысяча веселых духов резвится вокруг стола, радуется радостями людей и опьяняется их наслаждениями. Радость жизни возникла перед ним точно звучащее дерево, отягченное золотыми плодами. Зла не было видно; ему казалось невозможным, чтобы когда-либо людям хотелось обратиться от этого золотого дерева к опасным плодам познания, древу войны. Теперь он стал понимать, что такое вино и яства. Все казалось ему необыкновенно вкусным. Небесный елей приправлял ему пищу, а в бокале сверкала дивная прелесть земной жизни. Несколько девушек принесли старому Шванингу свежий венок. Он надел его, поцеловал девушек и сказал: - Нашему другу Клингсору принесите тоже венок; в благодарность мы оба научим вас нескольким новым песням. Мою песню я вам сейчас спою. Он дал знак музыке и запел громким голосом: "Наш ли жребий да не жалок? Нам ли бедным не роптать? Выростая из-под палок, В прятки учимся играть. Да и жаловаться тоже Часто - упаси нас Боже! Нет, с родительским уроком Нам не сжиться никогда, Жаждем мы упиться соком Запрещенного плода. Милых мальчиков так сладко К сердцу прижимать украдкой! Как? И мысли даже грешны? И на мысли есть налог? У малютки безутешной Даже грезы отнял рок? Нет, вам цели не достигнуть, И из сердца грез не выгнать! За молитвою вечерней Мы боимся пустоты. Все страстнее, все безмерней И тоскливее мечты. Ах, легко ль сопротивляться? И не слаще ль вдруг отдаться! Мать дает нам предписанье Прятать прелести - но вот, Не поможет и желанье,- Сами просятся вперед! От тоски, от страстной жажды Узел разорвется каждый. Быть глухой ко всяким ласкам, Каменной и ледяной, Не мигнуть красивым глазкам, Быть прилежной, быть одной, Отвечать на вздох презреньем: - Это ль не назвать мученьем? Отняли у нас отраду, Мука девушку гнетет, И ее за все в награду Поцелует блеклый рот. Век блаженный, возвращайся! Царство стариков, кончайся!" Старики и юноши смеялись. Девушки покраснели и улыбались, глядя в сторону. Среди тысячи шуток принесли второй венок и надели его на голову Клингсору. Его попросили спеть менее легкомысленную песню. - Конечно, - сказал Клингсор, - я ни за что не решусь дерзостно говорить о ваших тайнах. Скажите сами, какую песню вы хотите. - Только не про любовь, - воскликнули девушки. - Лучше всего застольную песню, если можно. Клингсор начал: "Где блещет зелень по вершинам, Там чудотворный бог рожден. Его избрало солнце сыном, Он пламенем его пронзен. Зачатый радостью и маем В нежнейших недрах он затих. Когда плоды мы собираем, Он, новорожденный, меж них. И в колыбели заповедной, В подземном трепетном ядре, Во сне он видит пир победный И замки в легком серебре. Не подойдет никто к затворам, Где он кипит, и юн и дик, Под молодым его напором Оковы разорвутся в миг. И много стражей сокровенных Лелеют детище свое, И всех, кто до дверей священных Дотронется, пронзит копье. Свои сияющие вежды, Как крылья, он раскрыть готов, Исполнить пастырей надежды, И выйти на умильный зов Из колыбели - в свет и росы, В хрустальной ткани и в венке; И символ единенья - розы Качаются в его руке. И вкруг него повсюду в сборе Все, в ком кипит живая кровь. К нему летят в веселом хоре И благодарность, и любовь. И брызжет жизнью, как лучами, Он в мир оцепенелый наш, И медленными пьет глотками Любовь из заповедных чаш. И чтоб железный век расплавить, Поэту он вручает власть, Кто в пьяных песнях будет славить Его веселье, смех и страсть. Он право на уста прекрасной В награду передал певцам. Так знайте все, что вы не властны Противиться его устам". - Прекрасный пророк! - воскликнули девушки. Шванинг имел очень довольный вид. Они стали было возражать, но это им не помогло. Им пришлось протянуть ему прелестные губы. Гейнриху было совестно перед своей серьезной соседкой, а не то он бы радовался, что у певцов такие права. Вероника была в числе принесших венок. Она радостно вернулась и сказала Гейнриху: - Правда, хорошо быть поэтом? - Гейнрих не решался воспользоваться этим вопросом. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 06-06-2007 13:30 |
|
Французская балладная строфа представляет собой восьмистишие или десятистишие. Десятистишие состоит из десятисложных стихов, со схемой рифм абаббввгвГ, со смысловой паузой после четвертого или после шестого стиха (но не после пятого, чтобы не разбивать строфу на две равные части). Если строфа баллады восьмистишная, то сами стихи восьмисложные, а схема рифм абаббвбВ. Оканчивается строфа рефреном – повторяющимся стихом (обозначенным у нас строчной буквой), единым для всех строф. Многие баллады заканчиваются посылкой, то есть полустрофой из четырех или пяти стихов, которая маркирует конец стихотворения. Таким образом, баллада является более строгой формой, чем канцона – в балладе уже приблизительно фиксирован объем стихотворения и обозначены строфы. Баллады были распространены во Франции в XIV-XVI веках, их писали К.Маро, Ф.Вийон, П.Ронсар. Ф.Вийон Баллада истин наизнанку Мы вкус находим только в сене И отдыхаем средь забот, Смеемся мы лишь от мучений, И цену деньгам знает мот. Кто любит солнце? Только крот. Лишь праведник глядит лукаво, Красоткам нравится урод, И лишь влюбленный мыслит здраво. Лентяй один не знает лени, На помощь только враг придет, И постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет, Дурак нам истину несет, Труды для нас - одна забава, Всего на свете горше мед, Коль трезв, так море по колени, Хромой скорее всех дойдет, Фома не ведает сомнений, Весна за летом настает, И руки обжигает лед. О мудреце дурная слава, Мы море переходим вброд, И лишь влюбленный мыслит здраво. Вот истины наоборот: Лишь подлый душу бережет, Глупец один рассудит право, И только шут себя блюдет, Осел достойней всех поет, И лишь влюбленный мыслит здраво. (пер.И.Эренбурга) В итальянской поэзии баллада предствляется собой более свободную форму без рефрена, в английской – этим термином определяют скорее жанр исторической или эпической поэмы. Немецкая баллада близка к английской, и если и отличается от той, то краткостью. В русской литературе жанр баллад, следовавший немецкой традиции, развивается с поэм В.Жуковского. Баллада как жесткая поэтическая форма возникает у Н.Гумилева как переводы из Вийона. Целый цикл баллад, также переводов из Вийона, и составивших раздел в сборнике «Семь цветов радуги», пишет В.Брюсов: Баллада о любви и смерти Когда торжественный Закат Царит на дальнем небосклоне И духи пламени хранят Воссевшего на алом троне,- Вещает он, воздев ладони, Смотря, как с неба льется кровь, Что сказано в земном законе: Любовь и Смерть, Смерть и Любовь! И призраков проходит ряд В простых одеждах и в короне: Ромео, много лет назад Пронзивший грудь клинком в Вероне; Надменный триумвир Антоний, В час скорби меч подъявший вновь; Пирам и Паоло... В их стоне - Любовь и Смерть, Смерть и Любовь! И я баюкать сердце рад Той музыкой святых гармоний. Нет, от любви не охранят Твердыни и от смерти - брони. На утре жизни и на склоне Ее к томленью дух готов. Что день,- безжалостней, мудреней Любовь и Смерть, Смерть и Любовь! Ты слышишь, друг, в вечернем звоне: «Своей судьбе не прекословь!» Нам свищет соловей на клене: «Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!» (1913) Виланель – стихотворение, родившееся во французской и итальянской поэзии, состоящее из трехстиший с рифмовкой A1бA2 + aбA1 + aбA2 +… aбA1A2, где A1 и А2 – повторяющиеся строки, которые раскрывают значение каждый раз по-новому и более полно, в конце стихотворения достигая трагической звучности и полноты. Для виланели характерен примерно фиксированный объем стихотворения и канонизированные строфы. Виланель Жана Пассора (XVI в.) в переводе Ю.Верховского: Врозь я с горлинкой моею: Не она ведь мне слышна. Поспешу вослед за нею. Ты ль с подружкою своею Розно? К нам судьба равна: Врозь я с горлинкой моею. Верю я душою всею, Коль твоя любовь верна: Поспешу я вслед за нею. Слух твой жалобой лелею Вновь, что нам двоим дана: Врозь я с горлинкой моею. Без ее красы жалею Все, чем жизнь была красна. Поспешу я вслед за нею. Смерть, верши свою затею, То возьми, что взять должна: Врозь я с горлинкой моею, Поспешу я вслед за нею. Две виланели «Все это было сон мгновенный…» и «Предчувствие» написал В.Брюсов: Все это было сон мгновенный, Я вновь на свете одинок, Я вновь томлюсь, как в узах пленный. Мне снися облик незабвенный, Румянец милых, нежных щек… Все это было сон мгновенный! Вновь жизнь шумит, как неизменный Меж камней скачущий поток, Я вновь томлюсь, как в узах пленный. Звучал нам с неба зов блаженный, Надежды расцветал цветок… Все это было сон мгновенный! Швырнул мне камень драгоценный Водоворот и вновь увлек… Я вновь томлюсь, как в узах пленный. Прими, Царица, мой смиренный Привет, в оправе стройных строк. Все это было сон мгновенный, Я вновь томлюсь, как в узах пленный. (1910) Повторы стихов раскрывают смысл и звучание стиха каждый раз по-иному, обогащая и иизменяя его от нейтрального в начале стихотворения до достигающего эмоциональной вершины к концу. Рондо, рондели и триолеты возникли из романской народной песни, взяв от нее чередование строф и припевов-рефренов. Стихотворной формой, предшествующей названным формам, была форма вирелэ, популярная во Франции в XIV-XV веках, а потом вышедшая из употребления. Вирелэ было стихотворением, состоящим из припева и двух коротких строф, за которым снова повторялся припев, и т.д. По числу повторов припева стихотворения назывались одинарное вирелэ (всего четыре строфы), двойное вирелэ (всего семь строф), тройное виреле (десять строф)... Стихи вирелэ были обычно короткими, схема рифм не фиксировалась. Эксперименты с такими формами проводили еще Великие риторики. Вначале во Франции все формы могли называть рондо (от слова – крулый), подчеркивая их повторяемость, возвращения к началу стиха. В XV веке в литературной традиции произошло сокращение числа повторов строф до двух-трех, и сокращение припева до одной-двух строки или даже полустишия. Такие одностишные повторы стали вставлять в середину и конец единственной строфы, что привело к образованию триолета (восьмистишие, стихи восьмисложные, схема рифм: АБаАабАБ, одинаковыми буквами обозначены рифмующиеся строки, строчными буквами обозначены повторяющиеся стихи), ронделя (двенадцатистишие, восьмисложные стихи, схема рифм: АБба абАБ аббаА или тринадцати-четырнадцатистишие АБба абАБ аббаА(Б)) и рондо (пятнадцатистишие, десятисложные стихи, схема рифм: Аабба ааб(А) аабба(А), в скобках – повторяющиеся полустишия первого стиха). Концовка «Большого завещания» Франсуа Вийона (XV век) написана в форме ронделя: Того ты упокой навек, Пошли покой и вечный свет, Кто супа не имел в обед, Охапки сена на ночлег, Безбровый, лысый человек, Как репа гол, разут, раздет, – Того ты упокой навек, Пошли покой и вечный свет! Он в жизни не изведал нег, Судьба дала по шее – нет: Еще дает так тридцать лет. Чья жизнь похуже всех калек – Того ты упокой навек! (пер. И.Эренбурга) |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 07-06-2007 10:13 |
|
Вайль и Генис. ТОРЖЕСТВО НЕДОРОСЛЯ. Фонвизин Случай "Недоросля" -- особый. Комедию изучают в школе так рано, что уже к выпускным экзаменам в голове не остается ничего, кроме знаменитой фразы: "Не хочу учиться, хочу жениться". Эта сентенция вряд ли может быть прочувствована не достигшими половой зрелости шестиклассниками: важна способность оценить глубинную связь эмоций духовных ("учиться") и физиологических ("жениться"). Даже само слово "недоросль" воспринимается не так, как задумано автором комедии. Во времена Фонвизина это было совершенно определенное понятие: так назывались дворяне, не получившие должного образования, которым поэтому запрещено было вступать в службу и жениться. Так что недорослю могло быть и двадцать с лишним лет. Правда, в фонвизинском случае Митрофану Простакову -- шестнадцать. При всем этом вполне справедливо, что с появлением фонвизинского Митрофанушки термин "недоросль" приобрел новое значение -- балбес, тупица, подросток с ограниченно-порочными наклонностями. Миф образа важнее жизненной правды. Тонкий одухотворенный лирик Фет был дельным хозяином и за помещичьи 17 лет не написал и полудюжины стихотворений. Но у нас, слава Богу, есть "Шепот, робкое дыханье, трели соловья..." -- и этим образ поэта исчерпывается, что только справедливо, хоть и неверно. Терминологический "недоросль" навеки, благодаря Митрофанушке и его творцу, превратился в расхожее осудительное словечко школьных учителей, стон родителей, ругательство. Сделать с этим ничего нельзя. Хотя и существует простой путь -- прочесть пьесу. Сюжет ее несложен. В семье провинциальных помещиков Простаковых живет их дальняя родственница -- оставшаяся сиротой Софья. На Софью имеют брачные виды брат госпожи Простаковой -- Тарас Скотинин и сын Простаковых -- Митрофан. В критический для девушки момент, когда ее отчаянно делят дядя и племянник, появляется другой дядя -- Стародум. Он убеждается в дурной сущности семьи Простаковых при помощи прогрессивного чиновника Правдина. Софья образумливается и выходит замуж за человека, которого любит -- за офицера Милона. Имение Простаковых берут в государственную опеку за жестокое обращение с крепостными. Митрофана отдают в военную службу. Все заканчивается, таким образом, хорошо. Просветительский хэппи-энд омрачает лишь одно, но весьма существенное обстоятельство: посрамленные и униженные в финале Митрофанушка и его родители -- единственное светлое пятно в пьесе. Живые, полнокровные, несущие естественные эмоции и здравый смысл люди -- Простаковы -- среди тьмы лицемерия, ханжества, официоза. Угрюмы и косны силы, собранные вокруг Стародума. Фонвизина принято относить к традиции классицизма. Это верно, и об этом свидетельствуют даже самые поверхностные, с первого взгляда заметные детали: например, имена персонажей. Милон -- красавчик, Правдин -- человек искренний, Скотинин -- понятно. Однако, при ближайшем рассмотрении, убедимся, что Фонвизин классицист только тогда, когда имеет дело с так называемыми положительными персонажами. Тут они Ходячие идеи, воплощенные трактаты на моральные темы. Но герои отрицательные ни в какой классицизм не укладываются, несмотря на свои "говорящие" имена. Фонвизин всеми силами изображал торжество разума, постигшего идеальную закономерность мироздания. Как всегда и во все времена, организующий разум уверенно оперся на благотворную организованную силу: карательные меры команды Стародума приняты -- Митрофан сослан в солдаты, над родителями взята опека. Но когда, и какой справедливости служил учрежденный с самыми благородными намерениями террор? В конечном-то счете подлинная бытийность, индивидуальные характеры и само живое разнообразие жизни -- оказались сильнее. Именно отрицательные герои "Недоросля" вошли в российские поговорки, приобрели архетипические качества -- то есть они и победили, если принимать во внимание расстановку сил на долгом протяжении российской культуры. Но именно поэтому следует обратить внимание на героев положительных, одержавших победу в ходе сюжета, но прошедших невнятными тенями по нашей словесности. Мертвенно страшен их язык. Местами их монологи напоминают наиболее изысканные по ужасу тексты Кафки. Вот речь Правдина: "Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из собственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно". Язык положительных героев "Недоросля" выявляет идейную ценность пьесы гораздо лучше, чем еe сознательно нравоучительные установки. В конечном счете понятно, что только такие люди могут вводить войска и комендантский час: "Не умeл я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану". Легче всего отнести весь этот языковой паноптикум на счет эпохи -- все же XVIII век. Но ничего не выходит, потому что в той же пьесе берут слово живущие рядом с положительными отрицательные персонажи. И какой же современной музыкой звучат реплики семейства Простаковых! Их язык жив и свеж, ему не мешают те два столетия, которые отделяют нас от "Недоросля". Тарас Скотинин, хвалясь достоинствами своего покойного дяди, изъясняется так, как могли бы говорить герои Шукшина: "Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны ворота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться. Как хватит себя лбом о притолоку... Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?" И положительные и отрицательные герои "Недоросля" ярче и выразительней всего проявляются в обсуждении проблем образования и воспитания. Это понятно: активный деятель Просвещения, Фонвизин, как и было тогда принято, уделял этим вопросам много внимания. И -- вновь конфликт. В пьесе засушенная схоластика отставного солдата Цифиркина и семинариста Кутейкина сталкиваются со здравым смыслом Простаковых. Замечателен пассаж, когда Митрофану дают задачу: сколько денег пришлось бы на каждого, если б он нашел с двумя товарищами триста рублей? Проповедь справедливости и морали, которую со всей язвительностью вкладывает в этот эпизод автор, сводится на нет мощным инстинктом здравого смысла г-жи Простаковой. Трудно не обнаружить некрасивую, но естественную логику в ее простодушном энергичном протесте: "Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке". Недоросль дурацкой науке учиться, собственно говоря, и не думает. У этого дремучего юнца -- в отличие от Стародума и его окружения -- понятия обо всем свои, неуклюжие, неартикулированные, но и не заемные, не зазубренные. Многие поколения школьников усваивают -- как смешон, глуп и нелеп Митрофан на уроке математики. Этот свирепый стереотип мешает понять, что пародия получилась -- вероятно, вопреки желанию автора -- не на невежество, а на науку, на все эти правила фонетики, морфологии и синтаксиса. "Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное? Митрофан. Дверь, котора дверь? Правдин. Котора дверь! Вот эта. Митрофан. Эта? Прилагательна. Правдин. Почему же? Митрофан. Потому что она приложена к своему месту. Вот у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так та покамест существительна." Двести лет смеются на недорослевой глупостью, как бы не замечая, что он мало того, что остроумен и точен, но и в своем глубинном проникновении в суть вещей, в подлинной индивидуализации всего существующего, в одухотворении неживого окружающего мира -- в известном смысле предтеча Андрея Платонова. А что касается способа словоизъявления -- один из родоначальников целого стилевого течения современной прозы: может ведь Марамзин написать -- "ум головы" или Довлатов -- "отморозил пальцы ног и уши головы". Простые и внятные истины отрицательных и осужденных школой Простаковых блистают на сером суконном фоне прописных упражнений положительных персонажей. Даже о такой деликатной материи, как любовь, эти грубые необразованные люди умеют сказать выразительнее и ярче. Красавчик Милон путается в душевных признаниях, как в плохо заученном уроке: "Душа благородная!.. Нет... не могу скрывать более моего сердечного чувства... Нет. Добродетель твоя извлекает силою все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя зависит сделать его счастье". Здесь сбивчивость не столько от волнения, сколько от забывчивости: что-то такое Милон прочел в перерывах между занятиями строевой подготовкой -- что-нибудь из Фенелона, из моралистического трактата "О воспитании девиц". Г-жа Простакова книг не читала вообще, и эмоция ее здрава и непорочна: "Вот послушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой... У кого достаточек, хоть и небольшой..." Вся историко-литературная вина Простаковых в том, что они не укладываются в идеологию Стародума. Не то чтобы у них была какая-то своя идеология -- упаси Бог. В их крепостническую жестокость не верится: сюжетный ход представляется надуманным для вящей убедительности финала, и кажется даже, что Фонвизин убеждает в первую очередь себя. Простаковы -- не злодеи, для этого они слишком стихийные анархисты, беспардонные охламоны, шуты гороховые. Они просто живут и по возможности желают жить, как им хочется. В конечном счете, конфликт Простаковых -- с одной стороны и Стародума с Правдиным -- с другой, это противоречие между идейностью и индивидуальностью. Между авторитарным и свободным сознанием. В естественных для современного читателя поисках сегодняшних аналогий риторическая мудрость Стародума странным образом встречается с дидактическим пафосом Солженицына. Сходства много: от надежд на Сибирь ("на ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть" -- Стародум, "Наша надежда и отстойник наш" -- Солженицын) до пристрастия к пословицам и поговоркам. "Отроду язык его не говорил да, когда душа его чувствовала нет",-- говорит о Стародуме Правдин то, что через два века выразится в чеканной формуле "жить не по лжи". Общее -- в настороженном подозрительном отношении к Западу: тезисы Стародума могли быть включены в Гарвардскую речь, не нарушив ее идейной и стилистической цельности. Примечательные рассуждения Стародума о Западе ("Я боюсь нынешних мудрецов. Мне случалось читать них все, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильно предрассудки, да воротят с корню добродетель") напоминают о всегдашней злободневности этой проблемы для российского общества. Хотя в самом "Недоросле" ей уделено не так уж много места, все творчество Фонвизина в целом пестрит размышлениями о соотношении России и Запада. Его известные письма из Франции поражают сочетанием тончайших наблюдений и площадной ругани. Фонвизин все время спохватывается. Он искренне восхищен лионскими текстильными предприятиями, но тут же замечает: "Надлежит зажать нос, въезжая в Лион". Непосредственно после восторгов перед Страсбургом и знаменитым собором -- обязательное напоминание, что и в этом городе "жители по уши в нечистоте". Но главное, разумеется, не в гигиене и санитарии. Главное -- в различии человеческих типов россиянина и европейца. Особенность общения с западным человеком Фонвизин подметил весьма изящно. Он употребил бы слова "альтернативность мнения" и "плюрализм мышления", если 6 знал их. Но писал Фонвизин именно об этом, и от русского писателя не ускользнула та крайность этих явно положительных качеств, которая по-русски в осудительном смысле именуется "бесхребетностью" (в похвальном называлось бы "гибкостью", но похвалы гибкости -- нет). Он пишет, что человек Запада "если спросить его утвердительным образом, отвечает: да, а если отрицательным о той же материи, отвечает: нет". Это тонко и совершенно справедливо, но грубы и совершенно несправедливы такие, например, слова о Франции: "Пустой блеск, взбалмошная наглость в мужчинах, бесстыдное непотребство в женщинах, другого, право, ничего не вижу". Возникает ощущение, что Фонвизину очень хотелось быть Стародумом. Однако ему безнадежно не хватало мрачности, последовательности, прямолинейности. Он упорно боролся за эти достоинства, даже собирался издавать журнал с символическим названием -- "Друг честных людей, или Стародум". Его героем и идеалом был -- Стародум. Но ничего не вышло. Слишком блестящ был юмор Фонвизина, слишком самостоятельны его суждения, слишком едки и независимы характеристики, слишком ярок стиль. Слишком силен был в Фонвизине Недоросль, чтобы он мог стать Стародумом. Он постоянно сбивается с дидактики на веселую ерунду и, желая осудить парижский разврат, пишет: "Кто недавно в Париже, с тем бьются здешние жители об заклад, что когда по нем (по Новому мосту) ни пойди, всякий раз встретится на нем белая лошадь, поп и непотребная женщина. Я нарочно хожу на этот мост и всякий раз их встречаю". Стародуму никогда не достичь такой смешной легкости. Он станет обличать падение нравов правильными оборотами или, чего доброго, в самом деле пойдет на мост считать непотребных женщин. Зато такую глупейшую историю с удовольствием расскажет Недоросль. То есть -- тот Фонвизин, которому удалось так и не стать Стародумом. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 07-06-2007 10:15 |
| Не балладная строфа, и не стихотворный, но мне очень нравятся авторы и Фонвизина навскидку отнесла бы к поэтам по ощущению) | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 07-06-2007 20:33 |
Фон визин прекрасный поэт и по ощущению и без |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 08-06-2007 10:52 |
| Да, точно. А следующий опус поразил мое воображение количеством сложных слов) | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 08-06-2007 10:57 |
|
Концептосфера любви в системе языка и культуры. Рассмотрим совокупность концептов любви, которые составляют ее концептосферу. Концепты здесь – «некоторые представители значений, скрытые в тексте «заместители» значений, облегчающие общение и тесно связанные с человеком» (6) В зависимости от содержания могут быть выделены ситуативные (мотивационно-прагматические) концепты, концепты, основанные на синтагматических и парадигматических отношениях, концепты, соответствующие разным языковым и культурным стратам, концепты, связанные с личным и народным опытом, концепты, вводимые религиозными, фольклорными, поэтическими текстами. Ситуативные концепты включают в себя адресанта, адресата, обстоятельства, цель и результат. Например, в отношении цели возможны следующие случаи: 1) А произносит словесную формулу для фиксации своего внутреннего состояния; 2) А хочет показать, что испытывает чувство привязанности к Б, симпатизирует ему; 3) А говорит словесную формулу, которая, по мнению А, будет приятна Б; 4) А кажется, что если он не скажет этого, то Б подумает, что А не ценит Б; 5) А говорит это, чтобы Б знал, что чувствует А по отношению к нему. Концепты, основанные на синтагматических отношениях, определяются сферой семантической сочетаемости глаголов интенсионального типа. Глагол любить обозначает чувство-действие, т.е. чувство, происходящее в психике субъекта и направленное на объект (предметное дополнение). Это наиболее общее значение можно рассматривать как структуру, состоящую из следующих взаимосвязанных семантических уровней: а) испытывать любовь (чувство в психическом «я» любящего); б) испытывать внутреннюю склонность к кому-, чему-либо; в) действие как способность объекта подвергаться какому-либо воздействию; г) действие как способность объекта эксплицировать содержание психического процесса, протекающего в субъекте; д) действие как способность соединяться с терминами модального значения. Семантические уровни а), б), в) и г) моделируют концепты по отношению к субъекту. Эти уровни обеспечивают глаголу любить сочетаемость с субъектными актантами – именами живых существ, уровень в) – также и с именами со значением неодушевленных предметов. Последнее основывается на переносных значениях, метафоре. Семантические уровни б), г) и д) моделируют концепты по отношению к объекту. Объектными актантами в этих случаях выступают пропозиции и имена пропозитивного значения (2). Здесь возможны различные преобразования, влияющие на способ представления концепта. Ср.: Я люблю во всем порядок; То, что я люблю во всем порядок, правда; Я люблю, чтобы во всем был порядок. Концепты, основанные на парадигматических отношениях, формируются семантическим полем «чувство-действие», ассоциативными отношениями, тезаурусом синонимов (любить – питать слабость к кому-чему, обожать, симпатизировать, быть неравнодушным к кому), антонимов (любить – ненавидеть). Концепты ассоциативного типа содержат семантико-грамматические, историко-культурные и ценностно-этические характеристики ассоциатива любить: человек, ненавидеть, жизнь, сильно, девушку, жить, мужа, женщину, крепко, природу, его, тебя, себя, горячо, жалеть, животных, верить, всех, дело, по-настоящему, уважать, страдать, некого, без оглядки, без остатка, да радоваться, я люблю тебя, жизнь (от стимула к реакции); женщину, верить, огонь, обещать, относиться, просто, помнить, сердце, чадо, быть, интересовать, носить, смеяться, снова, спать, театр, хорошо (от реакции к стимулу) (7). Концепты, отражающие собственный опыт субъекта, носят характер фиксации ощущений и относятся к микромиру человека. Под этот случай подпадают концепты, которые являются результатом анализа состояния и принятия решения. В наиболее «чистом» виде такие концепты представлены во внутренней речи: Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, с кем она будет счастлива и кого она любит, но что сию минуту она должна оскорбить человека… За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее… «Боже мой, неужели это я сама должна сказать ему? – подумала она. – Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду» (Толстой Л.Н. Анна Каренина). Концепты, в которых отражен опыт народа, входят в сферу знания всех членов социума, с систему связей макромира. Им свойственна семантическая двуплановость: наличие буквального и переносного смыслов. Концепты этого типа имплицируют ценностный характер любви: Деньги прах, одежда тоже, а любовь всего дороже; немотивированность объекта и неподконтрольность чувства: Хоть ряба, да мила; Каждому своя милая – самая любимая; «всесильность любви»: Любовь все побеждает; необходимость пропустить через призму любви микромир объекта: Любишь меня, люби и собачку мою; благожелание, снисходительность к слабостям и недостаткам любимого, жертвенность, готовность прощать, сострадание: Для милого и себя не жалко; Где любовь, там и напасть. Сфера любви концептуализируется главным образом через метафору. По словам В.Даля, «во внутренней одежде в пословицах наших можно найти образцы всех прикрас риторики, все способы окольного выражения» (4, 7). Основой метафорических выражений с этим словом служат мотивирующие образы. Эти образы антропоцентричны. «Поскольку внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего, материального мира, основным источником психологической лексики является лексика «физическая», используемая во вторичных, метафорических смыслах» (2, 95). Любовь метафоризируется через систему восприятия, ее органы и формы деятельности. Преобладают зрительные мотивирующие образы. Характерно уподобление любовь – глаза, зрение: Любовь начинается с глаз; Глазами влюбляются; Любовь слепа; Любовь ни зги не видит; Он на нее не наглядится; Не пил бы, не ел, все б на милую глядел; Он к тебе оком, а ты к нему боком; Где больно, там рука, где мило, тут глаза. За зрительными образами следуют вкусовые и слуховые: Женатого целовать не сладко; Несолоно хлебать, что немилого целовать; Без тебя заглох широк двор. Обращает на себя внимание зависимость вкусовых характеристик от участников ситуации восприятия. Из этих примеров можно извлечь прописные истины и отрицательные этические заповеди: «нехорошо целовать женатого» (ср. Чужого мужа полюбить – себя погубить), «нехорошо целовать немилого», «плохо, когда нет милого (милой)». Любовь уподобляется физиологическим состояниям человека: Не наесться куском, не нажиться (не натешиться) с дружком; Не приестся хороший кусок, не прискучит хороший дружок; Ох охонюшки, тошно без Афонюшки; Тошно тому, кто постыл кому, тошнее тому, кто мил кому; Вместе скучно, а розно тошно; Розно тошно, а вместе тесно; Тошно тому, кто любит кого, а тошнее тому, кто не любит никого. Реакция сердца, души на любовь очень сходна с реакцией тела на тепло, огонь: Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается; Без тебя, мой друг, постеля холодна, одеяло заиндевело; Любовь не пожар, а загорится – не потушишь; Любви, огня да кашля от людей не спрячешь (не утаишь). Любовь концептуализируется как физические действия и деятельность. Субъектом этого действия обычно выступает мужчина: Придет пора на пору, станешь девке ступать на ногу; Милый ударит – тела прибавит; Милый побьет, только потешит; Милого побои недолго болят; Милого побои не на кости. Любовь ассоциируется с интеллектом, эмоциями, речью: Где любовь, там и совет; Одна думка, одно и сердце; Люби да помни; Он с нею и себя не помнит; Сердцу сердце весть подает; Любовь зла, полюбит и козла; Полюбив, нагорюешься; Взглянет, что огнем опалит, а слово молвит, рублем подарит. В мотивирующих образах отчетливо проявляются гендерные характеристики. Можно говорить о «муж¬ских» и «женских» образах. К первым относятся, например, зрительные образы, образы физического действия, ко вторым – слуховые и цветовые. В образах интеллекта, эмоций и речи мужчины проявляют себя в одних отношениях, а женщины – в других: У парня догадка, у девки смысл; Девка ничего не знает, а все разумеет; Что девушка не знает, то ее и красит. Мотивирующие образы складываются в единую картину, в центре которой оказывается человек во всем многообразии его жизненных проявлений. В этой картине можно выделить внутренний и внешний мир человека, мужчину и женщину, позицию говорящего и слушающего, точки зрения и оценку. Все это отражает языковое сознание народа, философские представления, этические нормы и психологию. В соответствии с языковой и культурной, стратификацией (6) можно выделить концепты элитарной культуры, которые основываются на словарных значениях глагола любить: концепты «третьей культуры», связанные с просторечной лексикой: жалеть, сохнуть по ком, уважать что; концепты народной культуры, которые предопределены особенностями диалектного словоупотребления, например, в архангельских говорах любить – «о снадобье, горячить, начинать действовать»: Вино любит в жилах; «про¬из¬водить чувство неги»: Банный пар любит в косте (5, 282-283). Взаимодействие этих типов концептов проявляется в фактах перемещения одного и того же концепта либо по вертикали – при подъеме вверх по «лестнице» стратов, либо по горизонтали – при продвижении в смежные сферы, например, с такой последовательностью: концепты, соответствующие языку и культуре одного села (микро¬диа¬лект¬ные), говору (диалектные), диалектному континууму всего языка (народная культура в целом). Концепты, вводимые религиозным текстом, включают Божественный мир и человеческий, понятия истины, добра и зла, подвига, свободы, души, веры. Любить – термин таинственного соединения людей с Богом и между собой. В этом единении люди открываются друг другу и Высшему «Ты» как бесконечной любви, ибо пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. «Рассматриваемое внутри меня (по модусу «я») «в себе» или, точнее, «о себе», это вхождение (Бога в «я» и «я» в Бога. – Г.Д.) есть познание; «для другого» (по модусу «ты») оно – любовь, и, наконец, «для меня», как объективировавшееся и предметное (т.е. рассматриваемое по модусу «он»), оно есть красота. Другими словами, мое познание Бога, воспринимаемое во мне другим, есть любовь к воспринимающему, предметно же созерцаемая, – третьим, – любовь к другому есть красота» (9, 74-75). В Св. Писании любить выражает отношения – любовь Бога, любовь к Богу и ближним, отношения христиан друг к другу, любовь к врагам и признаки – вселенская любовь, личная, дружеская любовь, жертвенная любовь. Интересующие нас концепты в поэтическом тексте предопределены функциональной предназначенностью лирики. Слово любить может входить, например, в заглавие: Он любил три вещи на свете: / За вечерней пенье, белых павлинов / И стертые карты Америки. / Не любил, когда плачут дети, / Не любил чая с малиной/ И женской истерики./ ... А я была его женой (Ахматова А. Он любил...). Семантика слова любить конкретизируется здесь при помощи оппозиции (любил – не любил), ряда объектов, который оказывается не случайным набором имен, а поэтическим воспроизведением языковой картины мира. Концептосфера любви отражает личный опыт субъекта и коллективный опыт народа, имеет национально-культурные особенности и функционирует в текстах разных типов. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 08-06-2007 21:11 |
| Очень интересная концепция. Тут и любовь и почва в которой можно провалиться | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 10-06-2007 10:05 |
| Я - уже.....))))))) |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 13 14 15 16 17 Next>> |
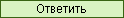
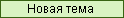
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |