
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 10 11 12 ...... 14 15 16 17 Next>> |
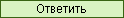
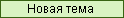
|
| Автор | Сообщение |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-04-2007 19:45 |
|
После этого попробуйте Мандельштама «оторвать от века». Он сказал, что из этого выйдет: «Ручаюсь вам, себе свернёте шею!»” (Там же). К этому стихотворению и к вопросу о том, что имел в виду Мандельштам, говоря, что никому не удастся оторвать его от века, мы ещё вернёмся. Пока же отметим только, что два знаменитых поэта, оценив мандельштамовскую «Оду» почти одинаково высоко, прочли и поняли её совершенно по-разному. И попытаемся понять, как и почему это у них вышло. Сравнивая мандельштамовскую «Оду» Сталину с одой Державина «Изображение Фелицы», Кушнер замечает, что написать эти стихи Мандельштаму, возможно, было легче, чем это нам представляется, поскольку “помимо «идейной», идеологической ставилась ещё и художественная задача”. Эта художественная задача состояла в том, чтобы в новых исторических условиях реализовать приём, полтора столетия тому назад изобретённый и разработанный Державиным. Можно, конечно, сказать и так. Перед Державиным и Мандельштамом стояла одна и та же задача: прославить (по возможности убедительно) то, что прославлять (по разным причинам и в разной степени) им обоим было трудно. Вот они и придумали себе (не исключаю, что Мандельштам придумал это самостоятельно, без оглядки на Державина) такое приспособление. Державину это его изобретение помогло: ода «Изображение Фелицы» была принята благосклонно и поэт был снова приближен к престолу. Мандельштаму — не помогло. И совсем не потому, что у Сталина поэтический слух был тоньше, чем у Екатерины: после стихов о “кремлёвском горце” Мандельштаму уже ничто не могло помочь. Да, судьбу свою этой «Одой» он не изменил. Но придуманное (а может, и впрямь заимствованное у Державина) приспособление и в самом деле помогло ему — худо-бедно — решить невыполнимую, в сущности, задачу: выдать мертворождённое, вымученное стихотворение за искреннее. (А задачу эту он, как видно, всё-таки решил, если об этом стихотворения до сих высказываются столь разные мнения и такие разные его оценки.) Чтобы лучше объяснить, что я имею в виду, проделаем такой простой эксперимент. Внимательно вглядимся (вслушаемся) в самые сильные, поэтически выразительные строки «Оды». (Каких, надо признать, там немало). Когда б я уголь взял для высшей похвалы — Для радости рисунка непреложной, — Я б воздух расчертил на хитрые углы И осторожно и тревожно... ............................................. Я б поднял брови малый уголок И поднял вновь и разрешил иначе: Знать, Прометей раздул свой уголёк, — Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу! Да, это — не Долматовский, и не Лебедев-Кумач. Это — Мандельштам. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-04-2007 19:45 |
|
И вот это: Сжимая уголёк, в котором всё сошлось, Рукою жадною одно лишь сходство клича, Рукою хищною — ловить лишь сходства ось — Я уголь искрошу, ища его обличья... И это: Пусть недостоин я иметь друзей, Пусть не насыщен я и желчью и слезами... И вот это: Уходят вдаль людских голов бугры: Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят, Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я сказать, что солнце светит. Не тем — и не потому — эти строки сильны, что в них, как полагает Бродский, выразилось тайное недоброжелательство автора к герою его «Оды» (“хитрые углы”), а по той простой причине, что все они непосредственно с этим его героем, в сущности, никак не связаны. Поэтическая сила и выразительность этих строк обусловлена тем, что они рождены прикосновением поэта к совсем другим, реальным для него темам. Скажем, с отношением его к творческому процессу: Сжимая уголёк, в котором всё сошлось, Рукою жадною одно лишь сходство клича, Рукою хищною — ловить лишь сходства ось — Я уголь искрошу, ища его обличья. Или с отношением поэта к двусмысленности своего положения: Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу... То есть рождены эти строки обращением поэта внутрь себя. Но стоит только ему приблизиться к главному предмету своего лирического словоизлияния, то есть к тому, ради чего, собственно, и затеяно всё это рискованное предприятие, как в голосе его начинают звучать фальшивые ноты. Рядом с сильными и выразительными, поэтически яркими и индивидуальными строчками появляются беспомощные, почти пародийные. В лучшем случае — никакие: И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца, Какого не скажу, то выраженье, близясь К которому, к нему, — вдруг узнаёшь отца... На всех готовых жить и умереть Бегут, играя, хмурые морщинки... И шестикратно я в сознанье берегу, Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы, Его огромный путь через тайгу И ленинский Октябрь — до выполненной клятвы. ............................................................................ Для чести и любви, для доблести и стали Есть имя славное для сжатых губ чтеца — Его мы слышали, и мы его застали. Видно, что поэт всё время как бы ходит вокруг да около. Но стоит ему приблизиться вплотную к заданной теме, как он сразу же попадает в плен казённых эпитетов, штампованных оборотов, в пошлые рамки казённого, газетного славословия: “мудрый”, “отец”, “шинель” и тому подобное. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-04-2007 19:46 |
|
Исключение составляет, пожалуй, только одно четверостишие: Он свесился с трибуны, как с горы, В бугры голов. Должник сильнее иска. Могучие глаза решительно добры, Густая бровь кому-то светит близко... Строки эти кажутся живыми, потому что к их мёртвому остову сделана искусственная прививка живой плоти. Этот крошечный кусочек живой ткани — словосочетание “бугры голов”. Н.Я. Мандельштам вспоминает, что, мучительно пытаясь сочинить «Оду», Мандельштам повторял: “Почему, когда я думаю о нём, передо мной всё головы, бугры голов? Что он делает с этими головами?” Разумеется, Мандельштам не мог не знать, “что он делает с этими головами”. Но этому знанию в «Оде» не было места. Изо всех сил стараясь убедить себя в том, что “он” делает “с ними” не то, что ему мерещилось, а нечто противоположное, то есть доброе, Мандельштам невольно срывается на крик: Могучие глаза решительно добры... Не просто глаза, но — могучие! Не просто добры, но — решительно добры! Впрочем, прививка реального, увиденного (“бугры голов”) невольно сообщает черты относительного правдоподобия всему остальному — вымученному, мёртвому. О четверостишии, начинающемся строкой: “Уходят вдаль людских голов бугры...” Н.Я. Мандельштам в своей «Книге третьей» сообщает: “Это четверостишие было найдено мной и Харджиевым на каком-то черновике Мандельштама (кажется, черновик «Не сравнивай, живущий несравним...») ...Само четверостишие вошло в «Оду» — О.М. старался втиснуть туда свои находки...” И замечает по этому поводу: “Искусственно задуманное стихотворение, в которое О.М. решил вложить весь бушующий в нём материал, стало маткой цикла противоположно направленных, с «Одой» несовместимых и «Оде» враждебных стихов”. Замечание это в полной мере приложимо и к самой «Оде»: в ней тоже соседствуют — не просто даже соседствуют, а плотно примыкают друг к другу — противоположно направленные, несовместимые с «Одой» и даже враждебные заданному её смыслу строки. Контраст между строками, имеющими какую-то точку опоры в душе поэта, и строками, такой опоры не имеющими, разителен, даже если строки эти стоят рядом. Но при этом создаётся иллюзия, что они образуют единое художественное целое: Пусть не достоин я ещё иметь друзей, Пусть не насыщен я и желчью и слезами... Строки выразительные и сильные. Но рифмующиеся с ними следующие две строки, уже непосредственно прославляющие Сталина, как уже было сказано, просто пародийны: Он мне всё чудится в шинели, в картузе На чудной площади с счастливыми глазами. И само слово “картуз”, которым обозначена сталинская фуражка военного образца, и “маловысокохудожественные” эпитеты (площадь — чудная, глаза — счастливые) — всё это убого до крайности. Но сила и выразительность предыдущих двух строк заслоняют эту убогость, даже как бы заражают эти убогие строки своей поэтической энергией. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 29-04-2007 19:47 |
|
Примерно то же происходит в том стихотворении, в котором Кушнер услышал звук раскачивающегося медного колокола. Начинается оно и впрямь колокольным звоном: Если б меня наши враги взяли И перестали со мной говорить люди, Если б лишили меня всего в мире: Права дышать и открывать двери И утверждать, что бытие будет И что народ, как судия, судит, — Если б меня смели держать зверем, Пищу мою на пол кидать стали б, — Я не смолчу, не заглушу боли, Но начерчу то, что чертить волен, И, раскачав колокол стен голый И разбудив вражеской тьмы угол, Я запрягу десять волов в голос И поведу руку во тьме плугом... Этих — начальных — строк стихотворения Кушнер не цитирует: они не укладываются в его концепцию. Тут ведь не вполне ясно, кто они — эти “враги”, которые могут лишить поэта “права дышать и открывать двери”. Одно несомненно: опасность оказаться вновь в “подвалах Лубянки” для Мандельштама в то время, когда рождались эти строки (февраль 1937 года), была гораздо более реальна, чем весьма сомнительная перспектива попасть в лапы гестапо. И что уж совсем несомненно, так это то, что строки “Я не смолчу, не заглушу боли, // Но начерчу то, что чертить волен” по смыслу не просто близки, но чуть ли не прямо повторяют те, что выплеснулись у него в 35-м, после первого ареста: Лишив меня морей, разбега и разлёта И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчёта: Губ шевелящихся отнять вы не могли. Контраст между этим началом стихотворения и финальными его строчками — разителен. Я говорю не столько даже о смысловом, сколько о художественном, поэтическом контрасте: И налетит пламенных лет стая, Прошелестит спелой грозой Ленин, И на земле, что избежит тленья, Будет будить разум и жизнь Сталин. Поражают эти финальные строки в сравнении с предыдущими не столько даже тем, что такая концовка из художественной логики стихотворения не вытекает, сколько тем, что они — никакие, пустые, не наполненные. Что, кстати сказать, подтверждается версией, согласно которой у Мандельштама был другой, противоположный по смыслу, вариант последней, концовочной строки: “Будет губить разум и жизнь — Сталин”. Н.Я. Мандельштам в «Книге третьей» решительно утверждает, что истинным является именно этот вариант. Вот её комментарий: “Последние две строки пришли к нему неожиданно и почти испугали его: «Почему это опять выскочило?» Возник вопрос, как это записать. Я предложила подставную последнюю строку: «...будет будить»”. Совершенно очевидно, какой вариант отражал истинное представление поэта о том, кого он уже однажды назвал “душегубцем”. (В стихотворении «Мы живём, под собою не чуя страны...» был такой вариант строки о “кремлёвском горце”: “Душегубца и мужикоборца...”) Антисталинская “эпиграмма” не была внезапным порывом, неожиданным взрывом минутного настроения. Отношение к Сталину у Мандельштама было вполне определённое, и он даже не старался делать из этого тайну. Откровенные свои суждения на этот счёт не стеснялся высказывать в разговорах с людьми мало знакомыми, а то и совсем не знакомыми — сразу, при первом же знакомстве: “Устроившись, пригласила к себе на скромное новоселье Мандельштамов. Стали садиться за стол — глядь, Осип Эмильевич куда-то исчез. Куда он мог подеваться? Его не было ни у телефона, ни на кухне, ни в прочих местах. Наконец я догадалась заглянуть в кабинет к отцу. Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама. А он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он подымал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чём-то отца: — ...он не способен сам ничего придумать... — ...воплощение нетворческого начала... — ...тип паразита... — ...десятник, который заставлял в Египте работать евреев... Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине?” (Эмма Герштейн. Мемуары. СПб., 1998. С. 26). И тем не менее в строку: “Будет губить разум и жизнь Сталин”, в это “губить” — как-то не верится. Во-первых, трудно представить себе, чтобы тогдашнее отношение Мандельштама к Ленину и Сталину было на интеллектуальном и политическом уровне будущих решений ХХ съезда. Противопоставление “плохому” Сталину “хорошего” Ленина — не в его, не в Мандельштамовом духе. Ну а кроме того, такая поправка дела совершенно не меняет. От замены апологетического глагола “будить” на разоблачающий “губить” стихи лучше не становятся. Даже наоборот. Лёгкость, с какой строка заменяется другой, прямо противоположной по смыслу, лишь ярче оттеняет искусственность, неподлинность, мертворождённость этого концовочного четверостишия. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 30-04-2007 14:09 |
| Один мой приятель сказал мне - зачем он(Мандельштам) это написал. Это не стихи. Несмотря на мемуары жены , у меня есть своё мнение. Не знаю почему , но эстэблишмент всегда хочет ,чтобы их всевышний похвалил, забывая , что поглаживание по голове может оказаться поглаживанием по головке, и не сделать тебя импотентом этим поглаживанием , а устроить с тобой садо мазо и затем ,чтобы не мучился казнить или оставить о себе неизгладимую память. Вот куда рвутся поэты и прочая братия. Лишь некоторые не захотели примкнуть и о них знают, но узкий круг. Это не живопись, стихи не продаются. Что можно продать? Рукопись. Но это уже не торговля, а изымание пройденного | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 30-04-2007 14:14 |
|
Корней Чуковский Слух переводчика. — Ритмика. — Звукопись Прежде чем взяться за перевод какого-нибудь иностранного автора, переводчик должен точно установить для себя стиль этого автора, систему его образов, ритмику. Он должен возможно чаще читать этого автора вслух, чтобы уловить темп и каданс его речи, столь существенные не только в стихах, но и в художественной прозе. Нельзя, например, переводить «Оссиана», не воспроизведя его внутренней музыки. Нельзя передавать Джона Рескина, или Уолтера Патера, или других мастеров ритмической орнаментальной прозы, не воспроизводя той многообразной пульсации ритмов, в которой главное очарование этих авторов. Характерно, что из четырех старых переводчиков Диккенсовой «Повести о двух городах» ни один не заметил, что первая глава этой повести есть, в сущности, стихотворение в прозе. Многие прозаики в качестве средств художественного воздействия прибегают к тем же методам, что и поэты. Художественная проза гораздо чаще, чем принято думать, стремится к кадансу, к ритмической последовательности голосовых подъемов и падений, к аллитерации и внутренним рифмам. Проза Андрея Белого, даже в книгах его мемуаров, всегда подчинена ритмическому строю. Чаще всего анапесту. То же можно сказать и о двух романах Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах». Даже у таких «прозаических прозаиков», как Чарльз Рид и Энтони Троллопп, не редкость — симметрическое строение фразы, аллитерации, рефрены и прочие аксессуары стихотворного лада; все это улавливается только изощренным, внимательным слухом, и такой слух переводчики всячески должны в себе развивать. М. А. Шишмарева в переводе романа Диккенса «Наш общий друг» передала одну фразу так: «Вся их мебель, все их друзья, вся их прислуга, их серебро, их карета и сами они были с иголочки новыми». Между тем как в подлиннике сказано: «Их мебель была новая, все их друзья были новые, вся прислуга была новая, их серебро было новое, их карета была новая, их сбруя была новая, их лошади были новые, их картины были новые, они сами были новые». Автору было угодно повторить девять раз один и тот же глагол и одно и то же прилагательное при каждом из девяти существительных. Переводчица же, лишенная слуха, пренебрегла этим настойчивым девятикратным повтором, обеднила, обкорнала всю фразу и отняла у нее ритм. Диккенс вообще любил такой словесный звуковой узор, в котором одно и то же слово повторяется назойливо часто. Вот его характерная фраза: «Мы шли мимо лодочных верфей, корабельных верфей, конопатных верфей, ремонтных верфей...»1 А в переводе той же М. Шишмаревой, конечно, читаем: «Мы шли мимо лодочных и корабельных верфей...» Еще более яркий пример такого нежелательного пренебрежения к ритму наблюдается, как уже было сказано, в переводе на русский язык другого романа Диккенса — «Повести о двух городах». «Повесть» у Диккенса начинается так: «Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди…» В этом отрывке — почти стихотворный каданс. Звуковая симметрия превосходно передает его иронический пафос. Переводчики, глухие к очарованиям ритма, предпочли перевести это так: «То было самое лучшее и самое худшее из времен, то был век разума и глупости, эпоха веры и безверия, пора просвещения и невежества, весна надежд и зима отчаяния», — то есть не уловили интонации автора и отняли у его слов их динамику, которая обусловлена ритмом. В данном случае я говорю лишь о тех повторениях слов, которые организуют ритмическую структуру прозы. Повторения выполняют эту функцию далеко не всегда. Никакого отношения к ритмике не имеет такая, например, фраза Толстого: «У крыльца уже стояла туго обтянутая железом и кожей тележка с туго запряженною широкими гужами сытою лошадью, в тележке сидел туго налитой кровью и туго подпоясанный приказчик»2. Конечно, в переводе нужно воспроизвести и эти повторения. Но в настоящей главе речь идет не о них, а о тех симметрически расположенных словесных комплексах, которые именно благодаря симметрии придают всей фразе ритмический строй. Конечно, симметрическое построение параллельных смысловых единиц в том или ином отрезке художественной прозы важно не само по себе, не только потому, что нам эстетически дорог определенный словесный орнамент, но и потому главным образом, что этот словесный орнамент повышает эмоциональную силу данного сочетания слов. Ритмический строй прозы сильно отличается от ритма стихов. «Основным признаком ритма, — по словам проф. Л. Тимофеева, — является прежде всего закономерная повторяемость однородных явлений; отсюда — определение ритма прозы мыслится как установление такой повторяемости. Однако в прозе мы имеем дело лишь с первоначальной ритмичностью, не переходящей в ритм сколько-нибудь отчетливого строения»3. «Ритм прозы—лишь набросок ритма», — говорит французский ученый П. Верье4. Тем труднее уловить этот ритм и тем изощреннее должен быть слух переводчика. «Ритм прозы, — говорит Андрей Федоров, — создается не столько правильным чередованием звуковых единиц (например, слогов ударных и неударных, целых групп слогов, мужских и женских окончаний), сколько упорядоченным расположением более крупных смысловых и синтаксических элементов речи, их следованием в определенном порядке — повторениями слов, параллелизмами, контрастами, симметрией, характером связи фраз и предложений. Кроме того, ритм прозы обусловливается также эмоциональным нагнетанием, распределением эмоциональной силы, патетической окраски, связанной с тем или иным отрезком речи»5. В качестве примера автор приводит отрывок прозы Гейне, которая и в русском переводе сохранила свой ритмический строй: Друзья мои будут лежать в полусгнивших гробах, и останусь я один, как одинокий колос, забытый жнецом, среди нового поколения, которое выросло вокруг меня, с новыми желаниями и новыми мыслями, с глубоким изумлением буду слушать я новые имена и новые песни, забудутся имена старые, и забудусь я сам, чтимый, может быть, немногими, ненавидимый многими, не любимый никем6. «В этом переводе, — говорит Андрей Федоров, — передано главное: характер и соотношения фраз, те симметрические соответствия и контрасты, какие устанавливаются между ними, их сцепление и возникающая благодаря словесным повторам... смысловая перекличка отдельных частей». Эти словесные повторы, эти смысловые переклички могут быть уловлены лишь внимательным слухом. Известный роман Ромена Роллана «Кола Брюньон» выдержан в том ритме, который ближе всего к русскому раешнику. Герой романа, бургундский винодел, весельчак, уснащает свою бойкую народную речь прибаутками, звонкими рифмами, которые и попытался воспроизвести замечательный мастер перевода Михаил Лозинский. Если любой отрывок этого перевода напечатать в виде стихов, рифмы станут гораздо заметнее: Я, Кола Брюньон, старый воробей, бургундских кровей, обширный духом и брюхом... Пять десятков — отличная штука!.. Не всякий, кто желает, до них доживает... И насовали же мы в этот старый дубленый мешок... проказ и улыбок, опыта и ошибок, чего надо и чего не надо, и фиг, и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и роз, и сучков, и всего, что видано, и читано, и испытано, что в жизни сбылось и пережилось7. Лет за двадцать до Михаила Лозинского тот же роман перевела Е. Елагина (Рыжкина-Памбэ). В ее переводе тоже сделана попытка передать «раешную» форму подлинника. Здесь Кола Брюньон говорит о себе, что он с прямой натурой, с круглой фигурой, — но в дальнейшем переводчица почти отказалась от воспроизведения стиховой структуры этой прозы и тот же самый отрывок перевела так: «Сколько мы набили в этот старый дубленый мешок радостей и горя, хитростей, шуток, испытаний и безумств, сена и соломы, фиг и винограду, плодов зрелых и незрелых, роз и репейника»8. В переводе Лозинского Кола Брюньон говорит: Хочешь знать, какова здесь мораль, изволь: подсоби себе сам, подсобит король. В переводе Елагиной эта же мысль изложена в прозе: «Нравоучение из всего этого: помогай себе сам, король тебе поможет». Нет даже поползновения на рифму. Там, где у Лозинского сказано: Оба мы наперебой сыпали слова гурьбой, с обеих сторон трещала речь без передышки, как картечь, — у Елагиной сказано: «Оба взапуски говорили пустяки. Это был фейерверк. У нас от него дух захватывало»9. Порой, подчеркивая стиховую природу этой затейливой прозы, Лозинский изыскивает диковинные, редкостные рифмы, в то время как Елагина не дает никаких. Лозинский: "Он принялся за винопийство, утомясь от долгого витийства.У нас в Бургундии не знают мерлехлюндии". Елагина: "Он выпил, утомленный большим расходом воздуха и красноречья...Бургундец находит все хорошим". Перевод Елагиной — добросовестный и талантливый — потерял очень много от ее пренебрежения к звуковым особенностям подлинника. Между тем чувство ритма, музыкальное чувство необходимо переводчику не только в тех случаях, когда он имеет дело с ритмизованной прозой, но и тогда, когда ему предстоит передать прозу бытовую, обыденную, не имеющую никакого притязания на стиховую ритмику. Марк Твен в своих «Приключениях Гекльберри Финна» изображает чопорную нудную женщину, которая мучит мальчика своей педагогикой. Для характеристики однообразия ее приставаний к ребенку автор заставляет ее трижды повторять его имя: « — Не болтай ногами, Гекльберри! — Не скрючивайся так, Гекльберри! — Не вытягивайся так, Гекльберри!» Между тем переводчик с невнимательным слухом не заметил этих троекратных повторов, не понял той роли, которую придал им автор, и перевел весь отрывок при помощи такого стяжения: « — Не болтай ногами, Финн! — Не потягивайся, не ломайся, Гекльберри!»10 Вся психологическая ценность отрывка пропала. Если слуховое восприятие текста так необходимо переводчику прозы, то насколько же важнее оно для переводчика произведений поэзии. Каким богато изощренным слухом должен, например, обладать переводчик Вергилия! Ведь главная сила «Энеиды» в ее великолепной акустике, в звукописи. «Никто, — говорит Валерий Брюсов, — никто среди поэтов всех стран и времен не умел совершеннее Вергилия живописать звуками. Для каждой картины, для каждого образа, для каждого понятия Вергилий находит слова, которые своими звуками их передают, их разъясняют, их выдвигают перед читателем. Звукопись Вергилия обращает стихи то в живопись, то в скульптуру, то в музыку. Мы видим, мы слышим то, о чем говорит поэт. Где нужно, эта звукопись переходит у Вергилия в звукоподражания. Ко всему этому надо прибавить высшую власть над ритмом стиха, также живописующим содержание, необыкновенное умение играть цезурами и, наконец, особое искусство в расположении слов, которым одни понятия и образы выдвигаются на первое место, другие ставятся в тени, третьи выявляются неожиданно и т. д. Все это обращает чтение «Энеиды» в подлиннике, помимо художественного наслаждения, в сплошной ряд изумлений перед исключительным мастерством художника»11. Значит, за перевод «Энеиды» и браться не должен такой переводчик, который нечувствителен к сладости и значимости словесных звучаний. Есть умы, для которых слова означают лишь то, что сказано об этих словах в словаре. Такие умы могут создать превосходную научную книгу, но перевести хоть строку «Энеиды», или «Метаморфоз», или баллады Кольриджа, или «Легенды веков» Виктора Гюго — для них непосильное бремя. В «Энеиде» только заметнее и, так сказать, обнаженнее та словесная музыка, которая присутствует в каждом подлинном произведении поэзии. «Звукопись, звуки слов в стихах, — говорит М. Лозинский, — всего ярче воздействуют на нашу эмоциональность. Это не просто музыкальный звук, так или иначе нас настраивающий. Звучат слова, а слова — носители мыслей, образов, понятий, чувств. И вот эти-то мысли, образы, понятия, чувства проникнуты звуком, светятся изнутри разно окрашенным звуковым светом. Они вступают между собой в сложную перекличку, звуки таинственно роднят их между собой, создают для нас сложные сети мысленных и чувственных ассоциаций. Вот перед вами два стиха. Они живут этой светящейся перекличкой звуков. Измените звук в одном из слов первой строки, и сразу во второй строке погаснет нетронутое вами слово, которое было полно волнующего смысла. Оно станет слепо и невыразительно только потому, что в первой строке в каком-то слове погас перекликающийся с ним звук»12. Известно, какую великую роль играет звукопись даже в творчестве такого поэта, как Некрасов, о котором долго среди эстетов держалась легенда, будто стихи его прозаичны, неуклюжи и малохудожественны. В знаменитом двустишии: Волга, Волга, весной многоводной Ты не так заливаешь поля... — первая строка вся с начала до конца зиждется на многократном в-о, а вторая на звуке а. Между тем во французском переводе эти строки переданы с полным презрением к звукописи: Volga! Volga! meme grossie des pluies (?) du printemps, Tu couvres moins nos champs...13 Право, не так отвратительно искажение смысла этих гениальных стихов (а смысл здесь тоже искажен, потому что реки в России становятся многоводными не от дождей, а от растаявшего снега), как искажение их звукописи. Ведь звукопись «позволяет поэту сказать больше, нежели вообще могут говорить слова», и отнять у него эту власть — значит лишить его самого могучего средства воздействия на психику читателя. Такую же глухоту обнаружил, например, переводчик Вороний, попытавшийся дать украинскую версию знаменитого двустишия Фета: …не знаю сам, что буду Петь, — но только песня зреет. В структуре фетовского двустишия самое главное — этот необычный разрыв между словами буду и петь, этот перенос слова петь в начало другой строки, отчего создается ритмический перебой, соответствующий тому неведению о своей будущей песне, которое сказалось в стихотворении Фета. А у переводчика никаких перебоев — самая «благополучная» ординарная ритмика: Що спiватиму, не знаю, Але cпiвiв — повнi груди (!). Такую же глухоту обнаружил переводчик Шекспира Соколовский, когда однообразные жалобы королевы Маргариты из «Ричарда III» перепел таким разнообразным стихом: Убиты Супруг и сын мой Ричардом. Ты также И Ричарда и Эдварда лишилась, Сраженных тем же Ричардом. Эта глухота стала особенно ощутительна после того, как появился перевод Анны Радловой. Перевод, очень слабый во многих других отношениях, изобилует рядом неточностей, но суровый ритм жалоб королевы Маргариты передан в нем с полным приближением к тексту: Эдвард, мой сын, был Ричардом убит И Генрих, муж мой, Ричардом убит И твой Эдвард был Ричардом убит, И Ричард твой был Ричардом убит. Четырехкратное повторение одного и того же сочетания двух слов («Ричардом убит») вполне соответствует подлиннику. Другие переводчики — именно вследствие своей глухоты — пытались дать побольше вариаций неизменно повторяющегося слова «убит»: «погиб», «погублен», «сражен», «лишился жизни» и прочее и прочее. Таким разнообразием глаголов было обусловлено разнообразие ритмов, между тем как в соответствии с подлинником здесь требовались монотонные повторы одинаково построенных фраз. Эти монотонные повторы переводчик мог бы уловить если не слухом, то зрением, ибо одинаковость синтаксической структуры всех четырех стихов, следующих один за другим, видна в этом случае при самом невнимательном чтении. Можно быть плохим музыкантом, но отлично читать ноты с листа. Даже те переводчики, которые лишены изощренного стихового слуха, могут заметить глазами ритмо-синтаксические формы стиха и попытаться воспроизвести их в своем переводе. Предположим, что Шишмарева действительно глуха к интонациям Чарльза Диккенса, но ведь эти интонации не только слышны, они раньше всего воспринимаются зрением, и никто не мешал переводчице увидеть то, что не удалось ей услышать. Именно оттого, что во всяком произведении словесного искусства такую огромную роль играют звуковые повторы, которые невозможно воссоздать на другом языке, многие писатели с древних времен выражали уверенность, что точный перевод этих произведений вообще невозможен. В самом деле, вслушайтесь в музыку пушкинских строк, окрашенную многократным повтором звука у и ю (йу): Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм, Сижу ль меж юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. Без этого звукового узора стихотворение вообще не существует. Самое расположение этих у здесь далеко не случайно. Для эмоционального воздействия на психику русских читателей поэту потребовалось, чтобы в обеих нечетных строках это у (ю) звучало по три раза, а в четных — либо два, либо один (3+2+3+1). Представьте себе, что какой-нибудь испанский поэт захочет воспроизвести это стихотворение Пушкина на своем языке. Так как форма стихотворения неотделима от его содержания, переводчик сочтет себя обязанным передать в переводе эти звуковые повторы. Но в испанском языке нет глаголов, которые, подобно русским, кончались бы звуком у (брожу, вхожу, сижу), в испанском языке ни безумный, ни многолюдный, ни шумный тоже не оснащены этим звуком. Поэтому, как бы ни бился поэт-переводчик, у него ничего не получится. А если бы ему и удалось каким-нибудь чудом воспроизвести эту музыку, и тогда его перевод не обладал бы достаточной степенью точности, так как для испанского уха звук у звучит совсем иначе, чем для русского. Эта невозможность передать на другом языке музыкальную форму стиха приводила многих поэтов в отчаяние, и они повторяли не раз, что точный перевод какого бы то ни было произведения поэзии есть безнадежное дело, заранее обреченное на неудачу. «Ведь язык поэтов, — говорил Перси Биши Шелли, — всегда подчинен единообразному и гармоническому повторению звуков, без которых он не был бы поэзией. Для воздействия (на душу читателя. — К. Ч.) повторение звуков едва ли не существеннее слов, взятых вне этого своеобразного строя. Отсюда тщетность, бесплодность (vanity) всякого перевода»14. Шелли подкрепляет свою мысль знаменитым сравнением. «Пытаться воспроизвести какой-нибудь поэтический текст на другом языке, — говорит он, — это все равно что взять фиалку, бросить ее в тот сосуд, где на сильнейшем огне плавится какой-нибудь металл, и притом питать безумную надежду, что таким образом удастся постичь первооснову ее цвета и запаха»15. То же самое за полтысячи лет до британского лирика высказывал и Данте в своем «Пире»: «Пусть каждый знает, что ничто, заключенное в целях гармонии в музыкальные основы стиха, не может быть переведено с одного языка на другой без нарушения всей его гармонии и прелести16. Эту же мысль высказал современный советский поэт Ал. Межиров, написавший на полях одного перевода: И вновь Из голубого дыма Встает поэзия Она — Вовеки непереводима, Родному языку верна17. Эту же мысль я встретил недавно в новейшей книге об искусстве перевода, изданной в США, в Техасе. Один из профессоров Техасского университета Уэрнер Уинтер так и озаглавил свою статью: «Невозможность перевода». Статья начинается такими словами: «По-моему, работу переводчика мы вправе сравнить с работой скульптора, которому предложили создать точную копию мраморной статуи, — а мрамора у него нет ни куска. Других материалов множество: к его услугам и камень и дерево. Он может воссоздать ту же статую в глине и в бронзе, может нарисовать ее карандашом на бумаге или кистью воспроизвести на холсте. Если он талантливый художник, у него может получиться отличное, даже великое произведение искусства, но того, к чему он стремился, ему не достичь никогда — никогда не создать точнейшую репродукцию мраморной статуи»18. О том же говорит и Борис Пастернак. «...Переводы неосуществимы, потому что главная прелесть художественного произведения в его неповторимости. Как же может повторить ее перевод?»19 |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 30-04-2007 14:17 |
|
Известный английский поэт и критик Роберт Грейвс (Graves), автор многих исторических романов, переведенных на другие языки, и сам неутомимый переводчик, подытожил свой большой переводческий опыт такими словами: «В конце концов нужно признать, что всякий перевод есть ложь, очень учтивая, но все-таки ложь». Писатель приводит простейший пример. «Кусочек хлеба, — говорит он, — для англичанина morsel of bread, для немца ein Stiickchen Brot, для француза тоrсеаи du pain, для испанца un trosito de pan — звуки этих слов так несхожи, что каждое из них вызывает в уме говорящих и слушающих совершенно различное представление о кусочке хлеба, о его форме, цвете, весе, величине и вкусе»20. Американский поэт Роберт Фрост, как-то заговорив о поэзии, сказал: — Поэзия — это то, что непереводимо на другой язык. Слова, отнимающие у переводчиков всякую надежду и даже право на существование. Английский поэт XVII века Джеймс Хауэлл (Howеll) высказал в одном стихотворении такую же безотрадную мысль. Он сравнил поэтический подлинник с роскошным турецким ковром. Глядя на серую изнанку ковра, никак не догадаешься о тех причудливых и ярких узорах, которые украшают его на лицевой стороне. Перевод это именно изнанка ковра, не дающая никакого представления о самом ковре, то есть о подлиннике. Порой кажется, что для такого пессимизма есть все основания. Но вспомнишь «Кубок» и «Иванову ночь» в переводах Жуковского, вспомнишь «Будрыса», переведенного Пушкиным, «Горные вершины» в переводе Лермонтова, «Коринфскую невесту» в переводе Алексея Толстого, а также десятки шедевров современных мастеров перевода — и все эти горькие мысли рушатся сами собой. К такому же оптимизму — правда, на других основаниях — пришел в конце концов и Борис Пастернак. «Переводы мыслимы, — пишет он, — потому что в идеале и они должны быть художественными произведениями и, при общности текста, становиться вровень с оригиналами своей собственной неповторимостью. Переводы мыслимы потому, что до нас веками переводили друг друга целые литературы, и переводы — не способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство векового общенья культур и народов»21. 1.Charles Dickens. David Copperfield. Chapman and Hall Ltd. London, p. 26 2.Л. Тимофеев. Теория стиха. М., 1939, с. 40. 3.Там же, с. 58. 4.Там же. 5.А. Федоров. О художественном переводе. Л., 1941, с. 121—122. 6.Там же, с. 121 — 122 7.Ромен Роллан. Кола Брюньон. Л., 1935, с. 10. 8.Р. Роллан. Кола Брюньон. Л., 1925, с. 9. 9.Р. Роллан. Кола Брюньон. Л., 1925, с. 114. 10.Марк Твен. Сочинения, т. 2. М. —Л., 1927, с. 6 и 7. 11.Валерий Брюсов. О переводе «Энеиды» русскими стихами — «Гермес», 1914, №9, с. 261. 12.М. Л. Лозинский. Искусство стихотворного перевода. — «Дружба народов», 1955, № 7, с. 164. 13.N. Necrassov. Poesies populaires, trad, par E. Halperine-Kaminsky et Ch. Morice. Paris, p. 188. 14.Percy Bysshe Shelley. A Defence of Poetry («Защита поэзии») во II томе его Prose Works, p. 7 (Chatt and Windus). 15.Там же. 16.Цит. по кн.: М. П. Алексеев. Проблема художественного перевода. Иркутск, 1931, с. 12. 17.Ал. Mежиров. На полях перевода — «Литературная газета», 1963, 21 декабря. Нужно ли говорить, что сам Ал. Межиров — один из сильнейших мастеров перевода. 18.Werner Winter. Impossibilities of Translation — In The Craft and Context of Translation. The University of Texas Press, 1963, p 68. 19.Б. Пастернак. Заметки переводчика. «Знамя», 1944, № 1—2, стр. 165. 20.Moral Principles of translation, by Robert Graves (Роберт Грейвс. Моральные принципы перевода). — «Encounter», 1965, №4, р. 55. 21.Б. Пастернак. Заметки переводчика. — «Знамя». 1944, № 1—2. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 30-04-2007 17:52 |
«…власть отвратительна, как руки брадобрея…» |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 01-05-2007 13:02 |
| вот и политический лозунг появился | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 01-05-2007 13:13 |
|
И еще: "Вот уже много веков на Краковском костеле появляется ежечасно трубач, извещая, что минул еще один час быстротечной жизни". (Это были слова известного поэта их области. Он часто бывал и у них в городе, читал свои стихи. Звали его Марк Сергеев.) Воздух ясен, и деревья голы, Хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселой Вновь трубит старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, Гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей Вновь зажег решетчатый фонарь. (...) Это стихотворение (не все - то, что было в книге) она выписала из "Алмазного венца" ("Алмазный мой венец") В.Катаева. Там автор значился под именем некоего ЭСКЕССА, данного ему, как и всем героям "Венца" Катаевым. Приходилось разгадывать, искать - это было хорошо: о многом узнавал в поисках сам. Узнавал не только подлинного поэта и его имя, но нередко что-то совсем новое о нем, очень интересное. Где она узнала потом об Эскессе (это был самый трудный поиск), она теперь не помнит, может, и от самого Катаева, может, он где-то сам написал о нем, но вряд ли... С - это первая буква имени поэта - Семен, Кесс - первые четыре - его фамилии: Кессельман. Его хвалил Блок. Эскесс жил вдвоем с матерью, вдовой, в Одессе, в подвале... Мать его боготворила. Он ее страстно любил, но... боялся. У Семы было жирное лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой, на котором часто возникало такое пророческое выражение, что было страшно за его судьбу... Она и оказалась страшной. Он погиб с матерью во время Отечественной войны - был сожжен фашистами... Возможно ли, - было ли это? (Верлен) Вот видишь - приходит пора звездопада, И, кажется, время навек разлучаться... ... А я лишь теперь понимаю, как надо Любить, и жалеть, и прощать, и прощаться. (Ольга Берггольц) "Вот бы и мне (как Монтеню!) написать такую статью, в которой мотивированно, а значит увлекательно (...), нашли бы место цитаты (...) - не одна, не две, а целая река цитат". (Юрий Олеша) "Г" начиналось словами о Гейне: "Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал. О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек, и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж, конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце". (Конст. Паустовский) Кончалась страничка словом, о многом им говорящим: "Гипс". В "Д" она любила это: Двое и яблоко. Изобразить эту фразу (название одного стихотворения Вероники Тушновой) так, чтобы яблоко было нарисовано, придумала она. Яблоко было красное, а черенок и листочек зеленые. И это, из забытого нынче Эренбурга, из "Бури", любила: Другие встретят солнце И будут петь и пить, И, может быть, не вспомнят, Как нам хотелось жить. "Е" с первой строки содержало мысль, касаемую посадки посторонних в "Росинанта" ("чужая людская беда" - в стихотворном посвящении мужу из подаренного ему алфавита). Если жизнь облыжная вас не дарит дланями - Помогите ближнему, помогите дальнему! Помогите встречному, все равно чем именно, Подвезите женщину - не скажите имени! (Андрей Вознесенский) И была приклеена ее фотография, очень подходящая к этому случаю: мольба на лице, прижатые к груди руки - так, по какому-то поводу она была снята в позе просящей. "Если человек во сне в Раю и получил в доказательство своего пребывания там цветок, а проснувшись, сжимает этот цветок в руке - что тогда?!" (Колридж, 18 век) Страница с буквой "Ж" наверху начиналась с фамилии Желтков. Сбоку, обрамленная волнистой тоненькой рамочкой, была фраза, относящаяся к этой фамилии, на что указывала золотая стрелка. "... то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение (...) L. van Beethoven. Son. N 2, Opus 2. Largo Appassionato". (А.Куприн) "... жизнь все же не символ, не одна-единственная загадка и не одна-единственная попытка ее разгадать, что она не должна воплощаться в одном конкретном человеческом лице, что нельзя, один раз неудачно метнув кость, выбывать из игры; что жить нужно - из последних сил, с опустошенною душой и без надежды уцелеть в железном сердце города - ПРЕТЕРПЕВАТЬ (выделено автором - Д.Ф.). И снова выходить - в слепой, соленый, темный океан". (Джон Фаулз) "Желаю новогоднего счастья навсегда". (Бел Кауфман, внучка Шолом-Алейхема) Ну, а на странице с буквой "3" было это самое стихотворение о понедельнике: Захотелось солнечной Наконец-то встречи "..." Здесь была и строка Мандельштама: "За стихи у нас убивают". У него была одна-единственная фотография родителей. Он тоже был с ними, сидел в середине. Ему было 17 - канун 18-летия и ухода в армию. И эту единственную фотографию он, очевидно, еще в студенческие годы или, может, в первые годы их жизни здесь заложил в какую-то толстую книгу, чтобы распрямить, и так с тех пор не мог найти. Каждый год он пересматривал книги, листал, тряс их, но фотографии так и не нашел... Были у него за войну всего одно письмо и открытка от матери (все письма за 8 месяцев до войны пропали во время отступления под Лепелм), справка из их сельсовета и письмо-треугольник от матери друга его детства Зямы Фалкова, сгоревшего в танке. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 01-05-2007 19:01 |
|
Стихотворный абсурд: большие формы ГИПЕРСТРУКТУРИРОВАННОСТЬ АБСУРДНОГО ТЕКСТА Напомним, что, пытаясь предложить некоторую парадигму анализа абсурдного текста, мы делаем заявку на парадигму анализа художественного текста вообще, рассматривая абсурдный текст как наиболее репрезентативный в смысле как “художественности”, так и “литературности”. Мы намеренно пока отложили попытки дефинировать эти категории более точно: на данном этапе анализа время для них все еще не настало. Стало быть, при полной вседозволенности во всем, что касается “плана содержания”, - вседозволенности, второе имя которой - Произвол, - должно тем не менее существовать нечто, что “держит текст”. Это было бы естественно: раскрепощение в одном неизбежно порождает закрепощение в другом - причем тем более сильное, чем выше степень раскрепощения. В противном случае мы имели бы вариант “анархии”, а анархия как самая простая из форм упорядоченности (как минус-упорядоченность) выводила бы текст за пределы искусства - области деятельности, причем деятельности творческой, то есть активной и интенсивной! То, что мы зафиксировали в предшествующей главе, удобно обозначить французским искусствоведческим термином, который у нас в качестве термина не существует. Имеется в виду слово “скандал”, применение которого по-русски распространяется исключительно на области быта. Французы вкладывают в это слово еще и терминологическое содержание, определяя таким образом стихийное, хаотическое начало как эстетический прием. Воспользовавшись этим термином, позволим себе ввести категорию семантического скандала как категорию, описывающую “план содержания” абсурдного текста. Под семантическим скандалом, “учиняемым” абсурдным текстом, удобно, следовательно, понимать, стихийность его содержания: какие бы то ни было смысловые рамки, сдерживающие автора, таким образом, отсутствуют. Мы намерены доказать, что “семантический скандал”, учиняемый абсурдным текстом, уравновешивается - и тем самым фактически сводится на нет - абсолютным “структурным покоем”, или “структурным комфортом”. Семантический хаос (репрезентант особой “художественности”) устраняется детальной простроенностью структуры, подчеркнуто грамотной диспозицией материала (репрезентант особой “литературности”). Часто эта “литературная грамотность” настолько демонстративна, что стихийное содержание оказывается целиком вписанным в некоторый - часто общеизвестный, традиционный - канон. Наиболее очевиден такой канон, когда дело касается абсурдных стихов (т.е. литературных произведений в стихотворной форме). И это, конечно же, неудивительно: стихотворная речь сама по себе уже достаточно канонична: ритм, строфика, рифма. Что же касается абсурдных стихов, то их отличает не просто наглядно, но до маниакальности скрупулезно организованная структурность. 1. СТИХОТВОРНЫЙ АБСУРД: БОЛЬШИЕ ФОРМЫ Обратимся для начала теперь уже к стихотворному произведению Льюиса Кэрролла, “Охота на Снарка”, на которое нам уже неоднократно приходилось ссылаться по разным поводам, но которое пока так еще и не стало предметом обстоятельного анализа. Обратим внимание на то, что текст этот у нас существует в литературных переводах совсем недолго: имеются в виду современные его переводы, так как попытки обращения к переводу “Снарка” делались и раньше - в конце XIX - начале XX века. Современных переводов два: оба только что изданы, один из них принадлежит Г. Кружкову, второй - автору этого исследования1. “Охота на Снарка” не получила в отечественном литературоведении адекватной оценки. Вот как, например, обошлась со всемирно знаменитым текстом “Краткая литературная энциклопедия” (интересно, что, беспечно попирая сразу все законы семантики, а заодно и английской грамматики, автор словарной статьи “Кэрролл, Льюис”, перевел “The Hunting of the Snark” как “Охоту Ворчуна”): “Следующие л и т е р а т у р н ы е о п ы т ы (разрядка моя - Е.К.) Кэрролла в стихах - “Охота Ворчуна” (1876) и в прозе - “Сильвия и Бруно” (1889-1993) особого успеха не имели”. Даже если это отчасти и справедливо по отношению к “Сильвии и Бруно”, по отношению к “Снарку” это просто дезынформация: тираж первого издания разошелся практически сразу, а в последующие шесть лет было распродано восемнадцать тысяч экземпляров; к 1908 году книга выдержала семнадцать (!) изданий. В настоящее же время (а настоящим оно является и для “Краткой литературной энциклопедии” в том числе) “Охота на Снарка” представляет собой одно из наиболее часто цитируемых произведений мировой литературы, в Англии существует даже “Общество любителей ‘Снарка’”, а несколько лет назад в Лондоне чрезвычайно известный ныне композитор Майкл Батт предложил вниманию любителям музыки и любителям Кэрролла рок-оперу “Охота на Снарка” с Джулианом Ленноном в главной роли. Опера стала одним из главных музыкальных событий сезона. Впрочем, как мы знаем, “у советских - собственная гордость”… Возвращаясь к проблемам структурной организации “Охоты на Снарка” (с намерением доказать тезис о “маниакально скрупулезной” структурированности абсурдного текста), сразу же обратим внимание на предельно странное определение жанра в подзаголовке - агония. По свидетельству Мартина Гарднера, наиболее успешно объяснявшего произведения Кэрролла, “в старом смысле” агония “означает высокую меру страдания, телесной боли или смерть”2. В общем представлении агония связывается с непрерывным процессом, а потому еще более странно выглядит рядом с этим словом “придаток” - “Агония в восьми приступах“. Такая детализация (и “дискретизация”) недискретного, в общем, состояния могла бы удивить, если бы текст, лежащий перед нами, не был образцом литературы абсурда. Это принципы литературы абсурда вынуждают автора с самого начала предельно четко структурировать даже предполагаемое содержание. На этом фоне “спонтанность возникновения” произведения, как о том свидетельствовал Кэрролл, может быть, даже нуждается в некоторой ревизии: в основе действительно спонтанного текста едва ли может лежать столь сбалансированная структура! Итак, “Агония в восьми приступах”. Показательно, что приступы выглядят весьма соразмерно, то есть это приступы приблизительно одинаковой протяженности, что тоже “подозрительно” с точки зрения медицинской!.. Если агония есть процесс недискретный, то “измерять” ее, да еще и фиксируя “благородную пропорциональность”, есть занятие практически безнадежное. Каждый из приступов назван в порядке следования: “Приступ первый”, “Приступ второй”, “Приступ третий” и т.д. Такое “хронометрирование” есть тоже разумеется, следствие того, что перед нами подчеркнуто структурированный абсурдный текст. Может быть (забегая немножко вперед), жанровый подзаголовок - “Агония в восьми приступах” - как раз, на концептуальном уровне, и есть разгадка того, что такое, собственно, абсурд. Абсурд - это, стало быть, насильственно и демонстративно расчлененный на части континуум, в принципе расчленению не поддающийся, но тем не менее “препарированный” и разложенный по частям в порядке их следования. Эта “логика структуры” захватывает читателя с самого начала - более того, еще до начала собственно “Охоты на Снарка” - во-первых, на уровне жанрового подзаголовка, а во-вторых, при обращении к “посвящению”, предпосланному произведению. Это посвящение выглядит так: Посвящается дорогому Ребёнку в память о золотом лете и перешептываниях на солнечном берегу. А вот как выглядит собственно текст этого посвящения в нашем переводе: ГЕРТ… нет, молчу: грозна ты не шутя! Ещё бы - меч… мальчишеский наряд! Расстанься с ними, сядь ко мне, дитя, Ты слушаешь? Я рад. РУДА фантазий - щедрая руда. Умей - всем силам злым наперекор - Добыть ее из жизни иногда. А впрочем, это вздор. ЧЕТ-нечет, Дева Милая!.. Слова - Ей-ей, великолепная игра: Так поболтаем ради баловства, Твоя душа добра! Э… ВЕЙ, веселый ветер, прочь, тоска! В работе дни текут мои, хотя Едва ли берег моря, горсть песка И образ твой забудутся, дитя! Мы намеренно привели полный текст стихотворения, чтобы дать возможность читателям воочию, что называется, убедиться в его гиперструктурированности. Мало того, что это классическое (традиционно ритмизованное, строфическое и рифмованное) стихотворение, оно еще и написано акростихом: первые буквы стихов складываются в имя маленькой героини Л. Кэрролла - Гертруды Четтэвей, которой и адресована “Охота на Снарка”. Но и это еще не все: стихотворение сопровождено особым структурным сверхзаданием: имя Гертруды Четтэвей разбито на четыре части, каждая из которых не только открывает очередное четверостишие - ГЕРТ, РУДА, ЧЕТ, Э…ВЕЙ, - но и является при этом самостоятельным полнозначным словом в составе первых строк четверостиший. А если кому-то и этого покажется мало, существует и пятый акцент - тоже сугубо структурного свойства! Если читать только первые буквы каждой строки по-английски (чего, к сожалению, уже совершенно невозможно добиться в русском переводе), то они складываются не только в имя героини, но и во фразу “Gertrude, chat away!” - “Гертруда, поболтаем-ка!”. Видимо, после всех этих подробностей не остается уже никого, кто все еще хотел бы оспорить тезис о крайней изощренности формы данного стихотворного посвящения! Между прочим, любовь Кэрролла к акростихам могла бы составить тему самостоятельного исследования. Их у него действительно великое множество - и естественно поэтому, что данный (заметим, чисто внешний и довольно трудноисполнимый) прием доведен поэтом до совершенства. По-видимому, прием осознавался им как весьма и весьма значимый в системе его представлений. Не будем забывать при этом, что поэтическая система, в которой мы в данный момент находимся, есть система абсурда, то есть система, сама по себе требующая педантично выстроенной структуры. Но не до такой же, как говорится, степени педантично! Может быть, столь несомненное пристрастие Кэрролла именно к акростихам (в дополнение к и без того очевидному “порядку следования частей”) действительно способно натолкнуть на мысль о своего рода мании - структуромании, так сказать… но этот аспект проблемы будет затронут чуть позднее. Пока же ограничимся констатацией того факта, что акростих, адресованный Гертруде Четтэвей и всем читателям “Охоты на Снарка”, являет своего рода предел возможной структурированности - и это, на наш взгляд, весьма основательно подготавливает аудиторию к восприятию чрезвычайно сумбурной “содержательно”, но в высшей степени организованной “формально” стихотворной композиции. Дескать, бояться нечего: в путешествие по безднам бессмыслицы нас поведет вполне педантичный проводник - донельзя упорядоченная форма! Итак, восемь четко отграниченных друг от друга и соразмерных “приступов” агонии, а также до умопомрачения наглядная структура посвящения суть залог того, что ориентиры в море абсурда у читателя есть: он отнюдь не брошен на произвол судьбы, но ведом любящим порядок “гидом”. Дальнейшие наблюдения над структурой текста позволяют сосредоточить внимание прежде всего на обилии рефренных и рефренообразных конструкций в “Охоте на Снарка”. Первое же, что нам предъявлено уже в самом начале текста и что обнимает две вступительные строфы, - это “the rule-of-three” (правило троекратного повтора). Как бы не полагаясь на то, что мы после подзаголовка и посвящения уже уловили под ногами твердую почву надежной структуры, Кэрролл незамедлительно делает еще один демонстративно структурный акцент (все цитаты из “Охоты на Снарка” даются в переводе автора данного исследования): “Это логово Снарка!” - так вскричал Бравый Бомцман3, швартуя бриг, И пальцем извлек из воды англичан, Поддевая за волосы их. “Это логово Снарка!” - двойной повтор Сам собою уже добрый знак. Это логово Снарка!” - тройной повтор! То, что сказано трижды, - факт. В “Охоте на Снарка” с этим правилом, правилом троекратного повтора, важным для концепции Льюиса Кэрролла, мы встретимся еще раз, в приступе под названием “Урок Бобру”. Зафиксируем этот второй случай уже сейчас, чтобы впоследствии больше не возвращаться к нему: “Так кричит только Чердт!” - догадался Бандид (А в команде он слыл Дураком). - Видно, Бомцман был прав”. - И, приняв гордый вид, Он добавил: “Я с Чердтом знаком! Так вопит только Чердт! Продолжайте свой счет: Дважды сказана мной эта фраза. И еще раз скажу: так орёт только Чердт! Правда - то, что звучит три раза”. Ориентируясь на трактовку Мартина Гарднера, Н.М. Демурова так характеризует “the rule-of-three”: “Это высказывание капитана, получившее название “the rule-ofthree”, неоднократно вспоминается в тексте (ср., например, “Приступ III”). Оно получило широкое распространение в современной научной и научно-популярной литературе. На него ссылается, например, в своей книге “Кибернетика” Норберт Винер, указывая, что ответы, данные компьютером, часто проверяют, задавая компьютеру решать ту же задачу несколько раз или давая ее нескольким различным компьютерам. Винер предполагает далее, что в человеческом мозгу имеются аналогичные механизмы: “Вряд ли можно думать, что передача важного сообщения может быть поручена одному нейронному механизму. Как и вычислительная машина, мозг, вероятно, действует согласно одному из вариантов того знаменитого принципа, который изложил Льюис Кэрролл в “Охоте на Снарка”: “Что три раза скажу, тому верь” (см. главу “Кибернетика и психопатология”, М., 1958, с. 181″4. Это высказывание Н.М. Демуровой хорошо согласуется с ее же анализом одного из структурных эффектов “Алисы в Стране Чудес” и “Алисы в Зазеркалье”: исследователь постоянно настаивает на идее “симметричности и равновеликости” текстов, сопровождая свои наблюдения следующими интересными рассуждениями, имеющими прямое отношение к тому, что мы сейчас обсуждаем. Ср.: “В концовке “Страны Чудес” (после возвращения Алисы в реальное, “биографическое” время) содержится двоекратное повторение и “проигрывание” чудесных событий, выпавших на долю Алисы во время ее странствий. Сначала проснувшаяся Алиса рассказывает свой сон сестре; затем все рассказанное Алисой проходит перед внутренним взором сестры. Создающееся таким образом троекратное, если иметь в виду всю сказку, повторение усиливает эффект повествования, связывая его с фольклорным троекратным повторением”5. См. также далее: “… во сне сестры четко выделяются две части. Первая из них ретроспективна, обращена в прошлое; она как бы быстро “прокручивает” сон Алисы, накладывая сказочные, ирреальные события сна Алисы на события реальной действительности… Но сон сестры устремлен в будущее, он как бы предвосхищает его, набрасывая те события, которые хотелось бы видеть автору. События эти включают (интересная особенность!) неоднократное воспроизведение уже трижды проигранных тем”6. Эти высказывания Н.М. Демуровой, может быть, позволяют сделать и вывод о прагматической функции повтора как такового в абсурдном тексте: повтор позволяет предельно резко акцентировать аспекты “структурного покоя”… впрочем, мы допускаем, что произвольно трактуем высказывания, приведенные выше. Два случая рефренов, отмеченные применительно к “Охоте на Снарка”, можно дополнить целым списком конструкций подобного рода - рефренных и рефренообразных. Обратим прежде всего внимание на самый последовательный и, пожалуй самый значимый для текста рефрен, воспроизводящийся в каждом новом “приступе”, начиная с третьего (он озаглавлен “История Булочника”), причем постоянно в одном и том же месте “приступов”, а именно в самом начале. “Историю Булочника”, т.е. третий “приступ”, этот рефрен завершает: здесь он приводится в качестве совета охоты на Снарка - совет этот Булочник получает от своего престарелого дядюшки. Рефрен звучит так: Запаситесь наперстком, сомненья поправ, Парой вилок, сорвиголовой И квитанцией, чтобы содрать с него штраф, И обмылком с улыбкой кривой. Обратим внимание на то, что сам по себе совет этот отнюдь не принадлежит к разряду высказываний, которые следует “передавать из уст в уста”: данный набор очевидных глупостей также имеет чисто структурное значение - повторяясь столько раз, он со временем утрачивает свою пустоту (если пустота вообще есть нечто, что можно утратить!) и начинает действительно восприниматься как “мудрость”. Это хорошо известный психологам и лингвистам эффект назойливых повторений, которые, сначала не имея никакой значимости, впоследствии “символизируются”. Опять же по свидетельству Н.М. Демуровой, “строфа повторяется во всей поэме 6 раз. Она прочно вошла в фонд крылатых выражений английского языка и не раз цитировалась во всевозможных сочинениях. Элсбет Хаксли, вдова известного английского писателя Олдоса Хаксли, назвала книгу своих воспоминаний “With Forks and Hope” (1964)”7. Интересно, что на тот же повтор как на очень важный для “Охоты на Снарка” обращал внимание и уже известный нам Мартин Гарднер в своем “Аннотированном Снарке”. Может быть, и не случайно, что данный - принципиальный для текста - повтор представляет собой одновременно и один из наиболее “безумных” фрагментов “Охоты на Снарка”: частотность его репродуцирования, снимающая, как только что сказано, невразумительность этого довольно темного места или, во всяком случае, призванная ее снимать, обнажает чистоту формальной задачи автора, оказываясь еще одним “ключом” к пониманию смысла (то есть бессмысленности) происходящего. Рефренообразные конструкции в “Охоте на Снарка” представлены прежде всего истерическими выкриками Бомцмана: похоже, что он вовсе не способен разговаривать спокойно, поскольку почти единственное сопровождающее его слово - глагол “to cry”: “The Bellman cried…” (”Бомцман вскричал…”). Ср. хотя бы только8: “Just the place for a Snark!” - the Bellman cried…” (с. 79) “So the Bellman would cry, and the crew would reply…” (с. 83) “And the Bellman cried: “Silence!” (с. 86) и мн. др. Столь же частотны и удары Бомцмана в колокол - несмотря на фактическую соположенность ударов “крикам” и “сопроводительной” роли ударов при них. Отметим однако, что удары в колокол сопровождают крики Бомцмана все-таки не всегда: удары в колокол есть дополнительное средство, маркирующее наиболее значимые моменты повествования - перед нами, таким образом, еще один способ подчеркивания “прочно сколоченной структуры”: “And this was to tingle his bell…” (с. 83) “And he angrily tingled his bell…” (С. 86) “… a furious bell, /Which the Bellman rang close…” (с. 98) и бесчисленное количество подобных. Еще примеры - других рефренообразных конструкций (представлены лишь их начала, т.к. каждая из них фактически развертывается в целый ряд повторов): “His form is ungainly - his intellekt small…” (с. 80) “We have sailed many month, we have sailed many weeks…” (с. 84) “They rosed him with muffins - they rosed him with ice - They rosed him with mustard and cress - They rosed him with jam and judious advice…” (с. 85) “It is this, it is this that oppresses my soul… “It is this, it is this” - “We have had that before!” (с. 87) и др. под., которые просто можно считывать с каждой страницы в изобилии. Едва ли имеет смысл увеличивать количество примеров (тем более, что задача привести даже “большинство” их нереальна!) - вполне достаточно, поняв общую функцию рефренов и рефренообразных конструкций, констатировать в конце концов, что прежде всего они действительно работают на упорядочение уже упорядоченной структуры того хаотичного целого, каким с точки зрения смысла является “Охота на Снарка”. Второй признак кэрролловской “мании” упорядочивать уже упорядоченное - тяготение к так называемым каноническим конструкциям. Имеются в виду “приступы”, целиком или частично построенные в соответствии с некоторыми традиционными формами речевого поведения. Формы эти нигде не используются, что называется, “в чистом виде”: любая из них представлена пародийно, но пародийный механизм затрагивает лишь “план содержания”, оставляя нетронутыми сами структуры. Обратимся, например к одному из первых случаев “микроструктуры” - педантичному представлению персонажей, одного за |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 02-05-2007 08:54 |
|
ГЕРТ… нет, молчу: грозна ты не шутя! Ещё бы - меч… мальчишеский наряд! Расстанься с ними, сядь ко мне, дитя, Ты слушаешь? Я рад. РУДА фантазий - щедрая руда. Умей - всем силам злым наперекор - Добыть ее из жизни иногда. А впрочем, это вздор. ЧЕТ-нечет, Дева Милая!.. Слова - Ей-ей, великолепная игра: Так поболтаем ради баловства, Твоя душа добра! Э… ВЕЙ, веселый ветер, прочь, тоска! В работе дни текут мои, хотя Едва ли берег моря, горсть песка И образ твой забудутся, дитя! И браво переводчику ! |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 02-05-2007 19:13 |
| Обалденная статья и ,действительно, обалденный перевод | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 02-05-2007 19:20 |
|
СНЯТИЕ СО КРЕСТА (Русская икона XV столетия) Композиция планиметрически представляет сочетание круга с двумя прямыми, образующими при пересечении крест. Эти две простые формы с выразительной символикой воплощают идею сюжета. Основная форма композиционного строения - кольцо. Фигура Христа - центральная сюжетно и композиционно, - образуя полукруг, отмечает темп (moderato), ритм и направление кругового движения. Фигура Христа имеет то же значение, что в музыке cantus firmus. Движение развертывается по полукругу. Фигура над Христом Иосифа Аримафейского ритмически почти повторяет ту же дугу, что и фигура Христа, подчеркивая и усиливая тем самым линию основного движения. Женская фигура справа от Христа - Мария Магдалина, - хотя и менее интенсивна (adagio), но повторяет склон первых двух фигур и, тем самым, постепенно разряжает круговое движение, слабеющее по мере приближения к периферии круга. Последняя справа фигура находится уже вне отмеченного круга и своим сдержанным движением (andantino), выраженным только в склоне головы, представляет удачно найденный ритмический мотив перехода от резкого полукругового движения центральной фигуры к статичной и вертикальной форме архитектурной башни второго плана. Две крайние правые фигуры в башне образуют три такта ритмического движения, постепенно слабеющего по мере удаления в глубину. Симметрию этим трем тактам представляет ритм левой части иконы (две крайние фигуры и башня). Движение в правой части круга весьма напряженно, ибо оно повторяет самую экспрессивную и динамичную линию центральной фигуры Христа. Левая часть круга, после пространственной цезуры между вертикальным древком креста и фигурой Богоматери, образует движение в противоположном направлении. Именно эта цезура дает возможность уравновесить правую и левую части круга. Движение в левой части круга отмечено лишь склонением головы Богоматери и протекает весьма в сдержанном темпе (adagio). Почти полная неподвижность фигуры Богоматери объясняется тем, что Мария принимает на себя падающее тело Христа и вследствие этого представляет собою как бы опору силе, идущей сверху справа налево. Два ряда фигур - принимающие тело и отдающие его - образуют два рода кривых, взаимно противоположных по направлению движения и вместе составляющих круг А. Две нижние фигуры в согнутых позах (Никодим и Иоанн Богослов) образуют малый круг а, тесно сплетенный в одно композиционное целое с кругом А. Оба эти круга А и а составляют общий круг В. Органическая связь всех трех кругов настолько прочна, что цепь, составленная из них, распадается как целое, если изъять какой-либо из кругов. Выключая из композиции малый круг а, мы лишаем замкнутости круг большой В, держащийся скрепом малого круга, как его составной части. Нижний а и средний А круги находятся в двух пространственно различных плоскостях. Две согбенные у подножия креста фигуры составляют первый к зрителю план иконы. Три фигуры, стоящие у креста, образуют второй план, несколько отодвинутый в глубину. Связывает эти оба плана фигура Христа, представляющая как бы мост, перекинутый через пространство, разделяющее оба плана. Это обстоятельство с очевидностью указывает, что пространственная глубина здесь налицо. Но решена эта задача не перспективно, а своеобразным композиционным приемом. Две крайние фигуры, стоящие по обеим сторонам круга А, находятся в третьем по счету пространственном плане. Он понадобился живописцу для того, чтобы создать постепенное ритмическое разрешение экспрессивного движения, обозначенного фигурой Христа. Это движение постепенно убывает, становясь едва уловимым в двух крайних фигурах, чтобы окончательно застыть в формах архитектурных башен. Именно благодаря этим двум фигурам третьего плана переход от полукругового движения второго плана к неподвижной архитектуре четвертого плана постепенен и лишен скачка. В западноевропейской живописи в XV столетии композиция чаще всего развертывается фронтально, при наличии глубинно-построенного перспективного пространства. Композиция “Снятие со креста” оформлена кулисно путем ряда планов, расположенных в глубину, и в этом отношении может быть сравниваема с самыми передовыми для XV века достижениями в изобразительном искусстве, разрушая в то же время представление об иконописи, как исключительно плоскостной форме. Ритмическая экспрессия двух кругов А и а разработана по принципу контрапункта. Если в круге А быстрый темп движения и сложный ритм дан в правой части, то в малом круге а в экспрессивном темпе построена левая часть. Левая фигура малого круга более напряжена по своей кривой, образующей полукруг, чем правая фигура того же круга, образующая угол из двух прямых вертикаль спины и горизонталь ноги). Движение в круге А идет справа налево, в круге а - в обратном порядке. Пропорциональное соотношение всех трех кругов подчинено принципу “золотого деления”. Общий круг В так относится к большему кругу А, как большой круг А относится к малому а. Соотношения частей композиции составляют пропорцию В : А = А : а. Композиционный строй данного произведения можно обозначить как рондо. Отличительной чертой рондо является возвращение темы и кольцеобразная связь между отдельными частями целого, что и имеется в соотношении между тремя кругами. Черты имитационного стиля присущи также рондо. В повторах полукругов, образуемых телом Христа и фигурами Иосифа и Магдалины, можно видеть типичный для стихотворного рондо рефрен. Колорит построен на насыщенных цветах. Гамма его звучна и интенсивна. Она дает аккорды киновари с зеленью, охры с белилами, синего с темно-коричневым, поражая смелостью и звучностью этих цветовых сопоставлений. Цветовая мелодия мажорна, что характерно для новгородской школы, образчиком которой служит эта икона. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 03-05-2007 11:08 |
|
Муамма – сложная стихотворная шарада, загадка, состоящая из 1-2 бейтов. В муамма в иносказательной форме даны указания на действия, которые нужно совершить в отношении определенных букв (арабского алфавита), содержащихся в стихотворении, – например, перенести точку, стоящую над буквой, под букву (в итоге получается другая буква); или перенести букву из одного слова в другое и т.д. Из преобразованных букв или слогов составляется слово-разгадка – какое-либо имя собственное. Алишер Навои в тазкире “Собрание избранных” рассказывает о своих современниках, в том числе о неком Мухаммаде Намани и его увлечении муамма: “Из поэтических жанров более всего любит муамма. Мастера этого искусства единогласно определили муамма как “ритмическое предложение, из которого путем определенного знака и намека извлекается имя”. А он сказал: “Не обязательно определять муамма как “ритмическое предложение”, достаточно только знака и намека”. И он привел в пример следующее: “Некоего человека зовут Садр, если у него кто-нибудь спросит, как его имя, а он положит руку на грудь, это явится доказательством того, что его имя Садр*”. Другой пример: “Некто где-то закопал какой-то клад и над ним повесил перевернутый колокольчик, сообразительный человек отгадает слово “ганз”**. Здесь нет необходимости ни в ритмическом предложении, ни в стихотворении”. Мудрые люди относят это его размышление к числу таких, которые возникают при охмурении бангом”. * “Садр” - “грудь” ** Колокольчик – “ганз”, при “перевернутом” чтении - “занг” - клад |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 03-05-2007 13:34 |
Обратимся, например к одному из первых случаев “микроструктуры” - педантичному представлению персонажей, одного за другим: представление такое осуществляется в “Швартовке” (Приступ первый). Представим себе роман, на первых страницах которого представлены и подробно охарактеризованы все будущие персонажи: едва ли читатели захотели бы продвинуться дальше этого описания! В нашем же случае - в случае с “Охотой на Снарка” - описание такое занимает чуть ли не одну шестую объема текста: на собственно события, условно говоря, остается и не так уж много места! Этот список действующих лиц был бы утомительным чтением, если бы не был абсурдным: только стихия нонсенса держит внимания читателя. А вот еще одна “макроструктура” - каноническая конструкция типа curriculum vitae. Приведем фрагмент из нее - еще и потому, что сама по себе прочная конструкция жизнеописания “упрочняется” еще и рефренами: Приступ третий История Булочника Бедняге давали кто сдобу, кто лед, Кто сэндвич слоев из шести, Кто джем, кто полезный совет, кто кроссворд, Чтоб в чувство его привести. Наконец он восстал - и решился начать Свой рассказ с превеликим трудом. Бомцман крикнул: “Прошу никого не рычать!” - И немедленно сделал “бом-бом”. Все умолкли. Никто не рычал в этот час - Только вздохи да стоны кругом… “Ну!” - толкнули беднягу, - он начал рассказ Допотопным своим языком. “Отец мой и матерь честны, но бедны…” “Пропустите их! - Бомцман вскричал, - Скоро спустится мрак - и прощай тогда Смарк: Он не станет гулять по ночам!” “Пропущу сорок лет, - всхлипнул пекарь в ответ, - И позволю себе без прикрас Рассказать о том памятном дне, когда мне Оказаться пришлось среди вас. М-да… мой Дядюшка (я его имя ношу), Прощаясь, сказал мне о том…” - “Пропустите! Не то я тут всех порешу!” - Рявкнул Бомцман и сделал “бом-бом”… Эта история жизни (с “пропущенной”, фактически, жизнью!) тоже входит в серию “канонов”, следуя непосредственно за каноном, с которым мы встречаемся во второй главе: там в качестве канона представлена “Речь Бомцмана”. Всего же развернутых канонов в “Охоте на Снарка” - произведении, состоящем из, стало быть 8 глав, - насчитывается пять, то есть более чем достаточно, чтобы одним этим уравновесить структуру уже навсегда! Эти каноны распределены следующим образом: Приступ первый - “Презентация героев”, Приступ второй - “Речь Бомцмана”, Приступ третий - “История Булочника”, Приступ пятый - “Урок Бобру”, Приступ шестой - “Сон Барристера”. Или, если выстроить приступы в ряд, обозначив отсутствие канона знаком (-), а наличие его - знаком (+): + + + - + + - - Ряд этот представлен для того, чтобы, с одной стороны продемонстрировать, “плотность” канонов, с другой - показать, что в их размещении тоже наблюдается известная пропорция: порядок царит и здесь. В “жанровом отношении”, то есть, если рассматривать каждый из канонов, вслед за М.М. Бахтиным, как речевой жанр, это, соответственно: презентация действующих лиц, публичное выступление, curriculum vitae (жизнеописание), поучение, судебная процедура. Такое устойчивое тяготение к традиционным речевым жанрам едва ли случайно для абсурдного мышления. Обычно поэты/писатели-абсурдисты действительно охотно пользуются готовыми, что называется, композиционными формами, уже известными читателю. Получается забавное явление: на теоретическом уровне способ приобщения к сообщению известен читателю заранее - это ли не “подпорка” абсурдному содержанию, то есть наполнению уже известной схемы? В сознании читателя схемы эти связываются с некоторым знакомым порядком развертывания сообщения, с планомерностью в подаче информации и т.д. То, что “содержание”, вкладываемое в такого рода готовые формы, стихийно, ничуть не мешает читателю воспринимать сами формы (а может быть, кстати, и помогает, превращая эти формы в “чистые формы”, то есть формы, совершенно освобожденные от смысла). Так что акт коммуникации посредством текста складывается - хотя бы и внешне - весьма благополучно. Иными словами, каноны суть одно из мощных средств акцентирования структуры - при так называемом плывущем содержании абсурдного произведения. Кстати, в кэрроловской “Фантасмагории” (малоизвестном у нас произведении) тоже можно найти пример упорядоченной структуры канонического типа: я имею в виду то, что можно было бы назвать этическим сводом: “Maxims of Behaviour” - пять “правил хорошего тона” для призраков, о которых Привидение в деталях докладывает лирическому герою. К вопросу о канонах нам придется еще вернуться - при анализе “Алисы в Стране Чудес” и “Алисы в Зазеркалье”, где каноны еще более строги и традиционны. Третий путь упорядочения того, что уже упорядочено, имеет отношение к, так сказать, наиболее внешней стороне “Охоты на Снарка”, то есть к тому, что традиционно считается поверхностной структурой текста. Перед нами, стало быть, стихотворное произведение, но опять-таки не просто стихотворное, а если угодно - подчеркнуто, или гипертрофированно, стихотворное. “Грамотнее”, “литературнее” уже просто некуда: стихотворение представляет собой монотонно чередующиеся катрены - и от этого принципа структурирования Льюис Кэрролл не отступает ни единого раза. Каждое четверостишие - законченный грамматически, “смыслово” и интонационно период, отделяющийся от предшествующего и последующего периодов (в абсолютно подавляющем большинстве случаев) каким-либо “окончательным” знаком препинания: точкой, восклицательным или вопросительным знаком, то есть знаком, требующим после себя большой буквы - нового начала: прилив-отлив, как еще (!) одно, ритмико-структурное, средство структурализации текста. Для большого текста такая поистине неутомимая строфичность не может быть ничем иным, как только приемом демонстрации порядка - причем порядка только и исключительно внешнего. Порядок этот поддерживается и однообразной для всего произведения рифмовкой - ААББ - при опять же абсолютном большинстве мужских рифм. В огромном количестве случаев рифмовка эта (видимо, все-таки “недостаточно очевидная” для Кэрролла!) подкрепляется еще и бесконечным количеством внутренних рифм (иногда “отменяющих” концевые). Вот примеры: “His intimate friends called him “Candle-ends”, “What’s good of Mercator’s North Poles and Equators…”, “So the Bellman would cry: and the crew would reply…”, “Other mapes are such shapes, with their islands and capes!”, “(so the crew would protest), that he’s brought us the best…”, “He was thoughtful and grave - but the orders he gave…”, “When he cried: “Steer to starboard, but kep her head larboard”…”, “But the principal failing occured in the sailing”… Вся эта совокупность примеров собрана лишь с одной странички - 83 - в “Topsy-Turvy World”!.. После того, как эти особенности “Охоты на Снарка” названы, сама собой напрашивается некая забавная аналогия, которая, кажется, как ни странно, еще не была предметом пристального внимания исследователей. А дело в том, что “Охота на Снарка” представляет собой крупную литературную форму только условно. На самом же деле эта незнакомая крупная форма легко опознается как набор знакомых мелких: текст “агонии” целиком состоит из лимериков - репрезентантов жанра, так хорошо известного англичанам. В сознании их соответствующая стихотворная структура прокручена уже столько раз, что практически безразлично, чем ее “наполнять” - структура эта будет безошибочно опознана с первого же предъявления! А потому главная трудность (состоящая в том, чтобы опознать знакомое во впервые предлагаемом тебе “сложном целом”), подстерегающая тех, кто приобщается к запутанному и сумбурному тексту агонии, преодолена заранее и фактически снята: лимерик выступает той подпорой (и подпорой весьма солидной!), на которой смело можно строить здание абсурда любой высоты. О лимериках у нас еще пойдет речь - здесь важно было лишь отметить их принципиальную роль в создании литературной формы “Охоты на Снарка”. Кстати, не чурается Кэрролл и более “частных” акцентов на область литературной формы: имя каждого из героев “Охоты на Снарка” начинается с буквы “Б”: в русском переводе это Бомцман, Бойбак, Барристер, Барахольщик, Бильярдщик, Банкир, Булочник, Бандид, Башмачник и Бобр - в составе команды, отправляющейся на поиски Снарка, Без (Boojum) и Бурностай (Bandersnatch) - за ее пределами. Когда Льюиса Кэрролла спрашивали, почему прозвища всех героев начинаются с “Б”, он отвечал: “А почему бы и нет?”. Кстати, под своими ранними стихами сам он подписывался псевдонимом “Б.Б.”. “Никто не знал почему”, - сообщает Мартин Гарднер. Не следует забывать и еще об одном “частном” формальном приеме, сильно подчеркивающем формально-литературную специфику текста, - знаменитые кэрролловские бумажники, то есть слова, представляющие собой комбинации двух и более слов, - причем иногда бумажник состоит из слов, легко восстанавливающихся: в нашем переводе “Снарка” это, например, сияльный (сиятельный + сильный), ослабнемел (ослаб + онемел), иногда - только из “теней” слов, уловить в которых первоначальные их очертания бывает трудно (в переводе “Алисы”, сделанном Н.М. Демуровой, это знаменитый пассаж Варкалось. Хливкие шорьки/Пырялись по наве с дающимися тут же объяснениями: скажем, хливкие - это хлипкие и ловкие). Читатель, останавливающийся перед каждым очередным бумажником, фактически напрямую поставлен всякий раз перед формальной задачей: “разгадать”, что скрывается в “бумажнике”, а тем самым лишний раз обратить внимание на структуру текста (подробнее об этом см. ниже, при анализе “Алисы в Стране Чудес” и “Алисы в Зазеркалье”). Наконец, не упустим из виду и того, насколько структурными могут быть даже те части абсурдного текста, которые, казалось бы, вообще не должны иметь под собой никакой обязательной структуры. В частности, в “Охоте на Снарка” есть знаменитый момент описания головокружительно сложного и “никому не нужного” математического расчета: расчет этот дается в “Уроке Бобру” и воспринимается как совершенно безумный, ибо суть данного расчета - прибавить два к одному, чтобы в сумме получить три. Бобр не может справиться с этим - и на помощь ему приходит Бандид, берущийся за дело весьма скрупулезно: Достали портфельчик, бумаги, чернил И ручек: без ручек нельзя! Какие-то твари окрестные к ним Приблизились, пяля глаза. Но Бандид игнорировал их и писал, Взявши в обе руки по перу; Он сложенья закон объяснял языком популярным, доступным Бобру: “Предположим, что нам с Вами Тройка дана - Это страшно удобно! Так вот: Семь и Десять прибавив, умножим их на Одну Тысячу минус Пятьсот. Результат, как Вы видите, делится вновь На пять Сотен плюс Пять без Пяти, Вычитаем семнадцать. Ответ наш готов! Он правилен, как ни крути. Мой метод рабочий я взял не с Луны - Весь он четко представлен в мозгу. Но - поскольку я занят, а Вы неумны, - Изложить я его не смогу…” Те из читателей, кто поверит Бандиду в том, что “метод” не может быть “изложен”, совершат непростительную ошибку! Мы на территории литературы абсурда, а это значит, что здесь царит структура - и, если некая строгая конструкция представлена нашему взору, можно быть уверенными: это не зря. Разумеется, Кэрроллу ни к чему было жертвовать таким сильным акцентом на форму текста: указание на конструкцию при отсутствие самой конструкции означало бы для него выстрел в пустоту. А потому математическая “белиберда” Бандида структурирована предельно точно - и, когда нашлись все-таки “зануды”, решившиеся проверить урок Бобру на прочность, прочность превзошла все ожидания: математические действия Бандида действительно давали в результате три. Вот как выглядит этот “расчет”: (Х + 7 + 10) x (1000 - 500)/(500 + (5 - 5)) - 17, где “Х” - искомое число 3. Пожалуй, тезис о гиперструктурированности “Охоты на Снарка” можно считать доказанным, несмотря на то, что мы не воспользовались и половиной доводов, которые тоже могли бы быть более чем красноречивыми. Однако не стоит, видимо, сосредоточиваться лишь на одном тексте: выводы, несомненно, покажутся гораздо более убедительными, если мы обратимся и к другим произведениям английского классического абсурда - при сохранении, однако, прежней цели: продемонстрировать практику компенсации хаоса в области содержания текста предельной упорядоченностью его структуры. Сохраним и характер предмета внимания: нас все еще интересуют стихотворные тексты - к прозаическим (как - парадоксально! - более сложным) мы обратимся позднее. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:02 |
|
Свою нобелевскую лекцию Иосиф Бродский начинает с определения себя как "человека частного, и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего". И далее, развивая тему, заявленную в названии "Лица необщим выраженьем", он проводит апологию частного как оппозиции идее общественного: "Если искусство чему-то и учит, то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней - и наиболее буквальной - формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности - превращая его из общественного животного в личность"[1]. Если мы позволим себе краткий исторический экскурс, то вспомним, что в царской России частная жизнь, как неучастие в дворцовой, государственной или воинской службе, полагалась достойной и уважаемой жизненной позицией и естественно могла включать и частное предпринимательство, и науку, и творчество…, а в советскую эпоху сами слова частник, частная собственность, частное предприятие и т.п. обрели негативную окраску, далеко не только в официозе. Однако и к концу 20-го века несмотря на крушение советской империи и упорные попытки западных демократий защитить права личности идея и ценность частного человека терпит урон, поддаётся… инфляции. Время вкупе с множеством социальных и политических факторов подвергает личность всё большей нивелировке, "стирает черты", и частное существование оказывается всё менее возможным. В 1919 году в статье "Крушение гуманизма" Александр Блок писал: " Утратилось равновесие между человеком и природой,/…/ между цивилизацией и культурой - то равновесие, которым жило и дышало великое движение гуманизма. Гуманизм утратил свой стиль, стиль есть ритм, утративший ритм гуманизм утратил и цельность"[2]. В 1987 году на вопрос "Как Вы относитесь к этой мысли Блока? или - Ваше мнение о судьбе гуманизма" Михаил Гаспаров ответил так: "Гуманизм был мироощущением антропоцентризма, был индивидуалистичен, и кончился, когда стало ясно, что вне общества индивидуум выжить не может, - к концу 19 века. С тех пор культура бьётся над созданием нового, "социоцентрического" гуманизма, но убедительных результатов ещё нет. Думаю, что "равновесие между человеком и природой, между цивилизацией и культурой" - это неточные (чтобы затушевать слишком примитивное противопостав- ление) выражения вместо "между личностью и обществом" (для Блока личность обладала культурой, общество - цивилизацией)"[3]. Сегодня, как и в конце прошлого века, в эпоху, по определению Иосифа Бродского, постхристианскую, гуманизм, дитя эпохи христианской, видится в далёкой исторической перспективе прошлого уже не столько великим, сколько частным явлением. Тем не менее поэзия Бродского, его "частное предпринимательство", "дело - почти антропологическое"[4], именно на фоне наступления торжествующего всеобщего "наводнения толп, множественного числа" настаивает на сохранении и даже усилении частных черт, частного, индивидуального. С горечью сознавая неизбежность прихода некоего нового миропорядка (или беспорядка), Бродский защищает частное от потери во всеобщем будущем / порядке / хаосе весьма парадоксальным образом: теперь, когда человек перестал звучать гордо, сакральное, высшее значение приобретает именно незначительность, частность. И он создаёт гимн частному как знаку, символу, части Целого. Здесь уместно вспомнить о платоновской диалектике частного и целого, ибо в бродской теодицее языку "частное" от человека как часть речи восходит или соотносится с частью божественной Души / Языка почти по-платоновски. Но, как отмечают Юрий и Михаил Лотманы в работе "Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского "Урания", поэт кое в чём "изменяет" Платону: "Именно причастность оформленным, потенциальным структурам и придаёт смысл сущему. Однако, несмотря на то что натурфилософия поэзии Бродского обнаруживает платоническую основу, по крайней мере в двух существенных моментах она прямо противонаправлена Платону. Первый из них связан с трактовкой категорий <порядок/беспорядок> (Космос/Хаос); второй - категорий <общее/частное>. В противоположность Платону, сущность бытия проступает не в упорядоченности, а в беспорядке, не в закономерности, а в случайности. Именно беспорядок достоин того, чтобы быть запечаленным в памяти ("Помнишь свалку вещей…"); именно в бессмысленности, эфемерности проступают черты бесконечности, вечности, абсолюта: смущать календари и числа присутствием, лишённым смысла, доказывая посторонним, что жизнь - синоним небытия и нарушенья правил. ("Строфы" 1978) |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:03 |
|
Бессмертно то, что потеряно; небытие ("ничто") - абсолютно. С другой стороны, дематериализация вещи, трансформация её в абстрактную структуру, связана не с восхождением к общему, а с усилением частного, индивидуального: В этом и есть, видать, роль материи во времени - передать всё во власть ничего, чтоб заселить вертоград голубой мечты, разменявши ничто на собственные черты. ... Так говорят <лишь ты>, заглядывая в лицо. ("Сидя в тени" 1983) Только полностью перейдя "во власть ничего", вещь приобретает свою подлинную индивидуальность, становится личностью. В этом контексте следует воспринимать и тот пафос случайности и частности, который пронизывает нобелевскую лекцию Бродского"[5]. Попытка анализа парадоксального значения незначительного в поздних стихах Бродского, певца "дребедени, лишних мыслей, ломаных линий…", и составит тему или содержание нижеизложенного. В стихотворении 1984 года "В горах" присутствует устойчивая в лирике поэта оппозиция: сиюминутность и страстность жизни - вечность и холод небытия; но чем ближе эта жизнь к небытию - <я> и <ты> к <никто> и <ничто> - тем неповторимее <очерк>: …Мы с тобой никто, ничто. Сумма лиц, моё с твоим, очерк чей и через сто тысяч лет неповторим. Осознание собственной незначительности оборачивается открытием потрясающей уникальности каждой <смертной черты>. Не об этом ли ещё в юности было сказано: "Душа за время жизни приобретает смертные черты"[6]? - что несколько перекликается со следующей сентенцией Сократа из диалога "Федон": "Разве мы не говорили уже, что, когда душа пользуется телом, исследуя что-либо с помощью зрения, слуха или какого-нибудь иного чувства, тело влечёт её к вещам, беспрерывно изменяющимся, и от соприкосновения с ними душа сбивается с пути, блуждает, испытывает замешательство и головокружение, точно пьяная?[7]". Короче, погрязает в страстях. Но страсть по Бродскому есть "привилегия незначительного". Эта мысль последовательно проводится в эссе "Похвала скуке", своеобразном опыте рефлексии автора на тему о времени и незначительном: "Ибо скука - вторжение времени в вашу систему ценностей. Она помещает ваше существование в его - существования - перспективу, конечный результат которой - точность и смирение. /…/ Чем больше вы узнаёте о собственной величине, тем смиренней вы становитесь и сочувственней к себе подобным, к той пылинке, что кружится в луче солнца или уже неподвижно лежит на вашем столе. "Помни обо мне",- шепчет пыль. /…/ Я привёл эти строчки / Питера Хухеля/, потому что они мне нравятся, потому что я узнаю в них себя и, коли на то пошло, любой живой организм, который будет стёрт с наличествующей поверхности. "Помни обо мне", - говорит пыль. И слышится здесь намёк на то, что, если мы узнаём о самих себе от времени, вероятно, время, в свою очередь, может узнать что-то от нас. Что бы это могло быть? Уступая ему по значимости, мы превосходим его в чуткости. Вот что означает - быть незначительными. /…/ Вы незначительны, потому что вы конечны. Однако, чем вещь конечней, тем больше она заряжена жизнью, эмоциями, радостью, страхами, состраданием. Ибо бесконечность не особенно оживленна, не особенно эмоциональна. Ваша скука, по крайней мере, говорит вам об этом. Поскольку ваша скука есть скука бесконечности"[8]. Эссе это, прозвучавшее как речь перед выпускниками Дартмутского колледжа, было написано в 89-м году. А в конце 90-го был завершён "Вертумн", посвящённый памяти Джанни Буттафавы, где в шутку идентифицируя ушедшего друга и бога перемен Вертумна, Бродский не без грустной иронии описывает и ту пользу, которую бесконечное получает от "нашего брата"- временного: ... Лопатками, как сквозняк, я чувствую, что и за моей спиною теперь тоже тянется улица, заросшая колоннадой, что в дальнем её конце тоже синею волны Адриатики. Сумма их, безусловно, твой подарок, Вертумн. Если угодно - сдача, мелочь, которой щедрая бесконечность порой осыпает временное. Отчасти - из суеверья, отчасти, наверно, поскольку оно одно - временное - и способно на ощущение счастья. "В этом смысле таким, как я, -- ты ухмылялся -- от вашего брата польза". С годами мне стало казаться, что радость жизни сделалась для тебя как бы второй натурой. /…/ Мне даже казалось, будто ты заразился нашей всеядностью. Действительно: вид с балкона на просторную площадь, дребезг колоколов, обтекаемость рыбы, рваное колоратуро видимой только в профиль птицы, перерастающие в овацию аплодисменты лавра, шелест банкнот - оценить могут только те, кто помнит, что завтра, в лучшем случае - послезавтра всё это кончится. Возможно, как раз у них бессмертные учатся радости, способности улыбаться. (Ведь бессмертным чужды подобные опасения.) В этом смысле тебе от нашего брата польза. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:05 |
|
Именно незначительное, конечное, смертное обладает привилегией страсти и тем интересно Вечности, Времени, Всевышнему. По-видимому, здесь можно усмотреть знакомое противо-едино-речие "чем меньше, тем больше". Возможно, поэтому символы лирического героя, образы человека и "Я" в текстах Бродского тяготеют, в частности, к минимизации, а средства описания лирического "Я" - к метонимии: волосы, бровь, гортань, зрачок, сетчатка. Андрей Ранчин[9], рассматривая инвариантные уподобления "Я" в поэтическом словаре Бродского маятнику, мыши, птице, пчеле, рыбе, моллюску, собаке, отмечает наряду с другими и коннотации мизерности, незначительности, изгойства, одиночества, жертвы. То же касается и таких инвариантных образов как звезда и лампа, главная метафорическая функция которых - обозначение лирического героя и его возлюбленной. Среди коннотаций звезды по Ранчину присутствуют одиночество и затерянность; звезда умаляется до крупы, которая не кормит, до слезы: "… и ежели я ночью// отыскивал звезду на потолке, // она, согласно правилам сгоранья, // сбегала на подушку по щеке", "…и скопом однажды сгуститься в звезду, в слезу ли…". В русле нашей темы значения незначительного крайне важной представляется и коннотация лампы как "малого солнца", которую можно распространить и на звезду. Такое "малое солнце" - лампу-звезду, чья сила света умалена до предела в четыре свечи, встречаем в третьей строфе стихотворения "25.Х11.1993" (посвящённого М.В., Маше Воробьёвой?, и навеянного, вероятно, не только Рождеством, но и отъездом с Мортон Стрит): А если ты дом покидаешь - включи звезду на прощанье в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она, вослед тебе глядя, во все времена. Стоит пристальнее вглядеться в причины малости "бродских" источников света, ибо макро-светило - солнце - почти не светит в его стихах. Возможно, из-за высокой степени ангажированности этого образа в прошлом русской литературы? "Солнце нашей поэзии закатилось" - писал о Пушкине Жуковский; солнцем над Россией назвал Льва Толстого Блок; "Будем как солнце" - звал Бальмонт; беседовал с солнцем-светилом на ты Маяковский… Но есть у антисолярности Бродского и более глубокая причина. В приведённом выше четверостишии дом превращается в мир, лампа - в звезду, а уход - в смерть - "во все времена". Всё так просто. Уходя… оставьте свет. Или станьте светом, "просто одной звездой". Но это не маяковское "светить всегда, светить везде". Свет - да, однако не яркий солнечный, не всеобще-слепящий. Изображение солнца ( вариант: светила) у Бродского отстранённое, даже порой нелицеприятное: <солнце всегда садится за телебашней>, <солнце бьётся в их окна, как в гладкие зеркала>, <солнце слепит паркет>, <светило, наказанное за грубость>, <светило ушло в другое полушарие>… Бьётся, следит, слепит, садится, но никогда (за одним исключением, о чём ниже) не светит. Лирический герой "Римских элегий" прячется <в недрах вечного города от светила, навязавшего цезарям (людям/статуям) их незрячесть>, т.е. слепоту к частностям, случайным чертам жизни, любезных сердцу певца <дребедени, лишних мыслей, ломаных линий> . Сравните: "Сколько света набилось в осколок звезды!" … Потому что свет - он больше, нет, лучше! солнца,… ибо он - от Бога. Бродский сказал об этом ещё в "Сретеньи": И образ Младенца с сияньем вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою как некий светильник, в ту чёрную тьму, в которой дотоле ещё никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. (Кстати, библейская парадигма света заключается в том, что он был создан Господом в первый день творения, и о нём первом было сказано, что он хорош; а светила, большое и малое, Господь сотворил только на четвёртый день, тогда же - звёзды. Причём, светила, ещё не получившие имён, были созданы для дела - разделения дня и ночи, а звёзды изначально названы звёздами и созданы скорее для … красоты). Таким образом, космология Бродского различает свет солнечный и свет божественный, духовный (коннотация: внутренний - "что-то, не уступающее по силе света тому, что в душе носили"; "ты тускло светишься изнутри"), но в поэтических символах и метафорах они сближаются и как бы смешиваются - понятие <свет> приобретает синкретический характер. Потому итальянские, особенно римские, стихи Бродского словно напоены светом-солнцем: …Я - в Риме, где светит солнце! …я счастлив в этой колыбели Муз, Права, Граций, где Назо и Вергилий пели, вещал Гораций. "Пьяцца Матеи" 1981 |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 03-05-2007 17:05 |
|
Дело здесь не в избытке солнечного света, а - в Риме, дарующем поэту ощущение причастности к с в е т у античной культуры и надежду на благосклонность музы Эвтерпы. Я был в Риме. Был залит светом так, Как только может мечтать обломок. На сетчатке моей золотой пятак. Хватит на всю длину потёмок. Свет - отпечатавшийся на сетчатке "золотой пятак" - золотой обол - пропуск и "некий светильник" "в ту чёрную тьму" или "на всю длину потёмок". Но излюбленные инвариантные источники света у Бродского - звёзды и лампы. Ему, человеку частному, ближе не всеобщий, но частный свет - жаркий свет живого, значит, временного, не вечного пламени <дрова, охваченные огнём>, колеблющийся свет свечи <бейся, свечной язычок>, искусственный, т.е. рукотворный, свет лампы, далёкий, почти эфемерный, мерцающий свет звезды. Частность как буквального, так и метафорического света поддерживается или уточняется измеряемостью его силы (в ваттах, свечах) и качественными характеристиками: "и ровно в двадцать ватт горит луна", "то две лампы в тыщу ватт, раскаляясь добела…", "спи, во все двадцать пять свечей…", "включи звезду на прощанье в четыре свечи". Интересно, что лампа, играя роль верной подруги писательского ремесла, обходится без эпитетов, как вещь самодостаточная: "взамен светила загорается лампа", "точно лампу жжёт", "лампу включать не стану"; а лампочка - источник слабого света и тепла - допускает определения или сама становится дополнением, например, атрибутом виртуальных питерских подъездов и коридоров, оживляющим ностальгию по юности: "и подъезды, чьё нёбо воспалено ангиной лампочки, произносят "а", "слава голой берёзе, колючей ели, лампочке жёлтой в пустых воротах", или предметом, сопутствующим неким размышлениям: "пока ты там себе мелькала под лампочкою вполнакала", "так мы лампочку тушим, чтоб сшибить табурет". В стихотворении "Снаружи темнеет, верней - синеет, точней - чернеет" (1992) размышления по поводу "перспективы пепла" приводят к тому, что незрячесть крепчает, зерно крупнеет; ваш зрачок расширяется, и, как бы в ответ на это, в мозгу разгорается лампочка анти-света. Лампочка света излучает свет, значит, лампочка антисвета излучает антисвет, т.е. тьму. Какая ещё лампочка может разгореться в мозгу, погружённом в мысли о финише с надписью "Геркуланум"? …Тупик? Тьма? Или "тот свет"? - свобода от этого, физического, света? Как "падаль - свобода от клеток, свобода от целого(от связанности, общности): апофеоз частиц"? И всё-таки симптоматично, что источником какого бы там В Нобелевской лекции, говоря о смущающих его дорогих тенях, Бродский допускает характерную оговорку: " …их, этих теней, лучше - источников света - ламп? звёзд?...". Причём эта мысль о замене теней на источники света провоцируется сентенцией о "том свете" в предшествующем абзаце: "Если тот свет существует - а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой, - если тот свет существует, то они, надеюсь, простят меня…". Здесь подспудно присутствует та же библейская парадигма: свет > источник света, только метафорически обыгранная: источник света с того света (сказать так можно лишь по-русски, т.к. в русском языке свет и мир - синонимы), тем паче, что выбор в качестве метафорических имён источников света ламп и звёзд указывает на окружающую тьму, ночь…, либо на предчувствие тьмы наступающей, ибо "будущее черно/…/ от присутствия толп, множественного числа", "кикладских вещей без черт лица". Кстати, тьма и есть множество, толпа в десять тысяч (см. словарь Даля). Бродского мог, очевидно, раздражать пафос Блока: "Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы". Тьмы, от которых в глазах темнеет. Недаром стихотворение по поводу другой надвигающейся тьмы, исламской, кончается строчкой: "И ничего не видно. Мрак". Любая тьма стирает черты лица, частности, случайности…, а случай, как заметил ещё Пушкин, - " Бог изобретатель". Поэтому блоковское "Сотри случайные черты - и ты увидишь: мир прекрасен" для Бродского абсолютно неприемлемо - для него это был бы мир тьмы с её исключительно отрицательными коннотациями. Однако есть у тьмы (пустоты, темноты) и положительное значение, если она … Твоя. Ничего, что черна. Ничего, что в ней ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незримей вещь, тем оно верней, Что она когда-то существовала На земле, и тем больше она - везде. "Римские элегии" 1981 |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 10 11 12 ...... 14 15 16 17 Next>> |
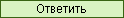
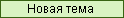
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Стихотворный рефрен |