
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Пример для подражания. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>> |
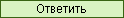
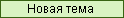
|
| Автор | Сообщение |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 19-05-2007 10:33 |
|
Дело происходит в 1903 году, через четыре года после его злополучной беседы с отцом о проблемах секса. Ему двадцать лет, и он занят подготовкой к своему первому экзамену по праву. Он замечает на тротуаре напротив продавщицу из магазина готового платья. Они подают друг другу знаки, и однажды вечером он следует за ней в гостиницу «Кляйнзайте». Уже перед самым входом он охвачен страхом: «Все было очаровательно, возбуждающе и омерзительно»; то же самое ощущение он продолжает испытывать и в гостинице: «Когда мы под утро возвращались домой по Карловому мосту, я, конечно, был счастлив, но счастье это состояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть наконец-то обрела покой, а самое большое счастье было в том, что все не оказалось еще более омерзительным, еще более грязным». Он встречает во второй раз молоденькую продавщицу, и все происходит, как и в первый раз. Но затем (здесь надо проследить этот главный опыт во всех его подробностях, который так мало писателей передали столь тщательно и с подобной искренностью) он уезжает на каникулы, встречает других девушек, и с этого момента он не может больше видеть эту маленькую продавщицу, хотя хорошо знает, что она наивна и добра, он смотрит на нее как на своего врага. «Не хочу сказать, что единственной причиной наверняка не было то, что в гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость (об этом и говорить не стоит) да еще сказала одну пустячную сальность (и об этом тоже говорить не стоит), но в память это врезалось, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть, и понял также (или вообразил себе), что эта мерзость или сальность если не обязательно внешне, то уже внутренне очень обязательно связаны со всем происшедшим». Он знает, что в гостиницу его привлекли именно эти «ужасы», именно этого он хотел и в то же время ненавидел. Много времени спустя он снова испытывает неукротимое желание, «желание маленькой, совершенно определенной мерзости, чего-то слегка пакостного, постыдного, грязного, и даже в том лучшем, что мне доставалось на долю, сохранялась частичка этого, некий дурной душок, толика серы, толика ада. В этой тяге есть что-то от Вечного Жида, бессмысленно влекомого по бессмысленно грязному миру». Даже напыщенность языка подчеркивает характер запрета, который нависает отныне для него над всем, что касается секса. Заноза вонзилась в плоть. На некоторое время — в 1903, в 1904 гг. — рана остается терпимой; она еще позволяла любовные интрижки юности. Но боль будет усиливаться с каждым годом, мало-помалу она парализует всю его жизнь. В конце «Описания одной борьбы» один из персонажей рассказа погружает себе в руку лезвие небольшого перочинного ножа. Некоторые комментаторы интерпретировали эту сцену как символическое самоубийство. Но психоаналитики, несомненно, более охотно усмотрят в ней образ кастрации. * * * «Я ухожу в распростершиеся бурые и меланхолические поля с оставленными плугами, поля, которые, однако, отливают серебром, когда несмотря ни на что появляется запоздалое солнце и отбрасывает мою большую тень /.../ на борозды. Заметил ли ты, как тени поздней осени пляшут на темной вспаханной земле, пляшут, как настоящие танцоры? Заметил ли ты, как земля приподнимается навстречу пасущейся корове и с каким доверием она приподнимается? Заметил ли ты, как тяжелый и жирный ком земли крошится в слишком тонких пальцах и с какой торжественностью он крошится?» Неискушенному читателю, несомненно, трудно признать автором этого отрывка Кафку. Тем не менее, это фрагмент из письма Поллаку. Точно так же год спустя стихотворение, включенное в письмо, предназначенное тому же адресату, описывает маленький занесенный снегом городок, по-новогоднему слабо освещенные домишки и посреди этого пейзажа одинокого задумавшегося человека, опершегося на перила моста. Стиль перегружен уменьшительными словами и архаизмами. Этот маньеризм не без основания отнесли на счет влияния «Kunstwarda», журнала искусства и литературы, который Поллак и Кафка усердно читали и подписчиками которого, по всей видимости, были. Читать «Kunstward» («Хранитель искусств») в 1902 году уже не было особенно оригинальным. Журнал выходил почти 15 лет, вначале он печатал хороших писателей, но мало-помалу переориентировался в область различных течений модернизма, натурализма, равно как и символизма. Он пришел к типу поэзии, живописующей местный колорит, пример которой предлагает письмо Кафки. Кафка продолжает писать. В это время к тому же он ведет если не «Дневник», то по меньшей мере записную книжку. Он начал писать рано («Ты видишь, — пишет он Поллаку, — несчастье слишком рано свалилось на мою спину») и остановился, говорит он, лишь в 1903 году, когда в течение шести месяцев почти ничего больше не создал. «Бог этого не хочет, но я должен писать. Отсюда постоянные метания; в конце концов Бог берет верх, и это приносит большие несчастия, чем ты можешь себе представить». Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять. Можно предположить только, что именно к этому периоду относятся странно неровные стихотворения, несколько образчиков которых он впоследствии включил в свои письма. Он также сообщил Оскару Поллаку, что готовит книгу, которая будет называться «Ребенок и Город». Имеем ли мы право предполагать, каким мог быть этот замысел? Предназначался ли город для подавления непосредственности ребенка, что согласовывалось с мыслями Кафки относительно педагогики? Имелась ли связь между этой исчезнувшей книгой и черновыми набросками, которые будут называться «Городской мир» или «Маленький обитатель руин»? Мы ничего об этом не знаем и лучше по сему поводу ничего не выдумывать. Зато несомненны две вещи: первая — Кафка очень скоро откажется от своего отвратительного маньеризма; вторая ~ даже эти заблуждения молодости не были для него лишены значения. «Возвращение к земле» по-своему объясняет устойчивые элементы его натуры, которые выступают в разных формах: натурализм, вкус к физическим упражнениям и садоводству, огородничеству, склонность к умеренности в еде, враждебное отношение к медицине и к медикаментам, предпочтение «естественных» лекарств (например, герой «Замка» будет однажды назван «горькой травой» за присущие ему способности к целительству). В комнате, которую Кафка занимал у своих родителей, очень простой, скудно обставленной, почти аскетической (типа той, что будет представлена в «Превращении»), единственным украшением была гравюра Ганса Тома под названием «Пахарь», вырезанная из «Kunstward», — такова было среда его обитания. Существенная, поистине фундаментальная часть личности Кафки проявляется прежде всего, правда, именно в склонности к «простой жизни», которая проступает в его первых литературных опытах. Кстати, у Кафки, который столь глубоко обновит литературу, в раннем творчестве нет ничего, что роднит его с авангардом. Десять лет спустя, когда он поедет в Веймар с Максом Бродом, он посетит Пауля Эрнста и Йоганнеса Шлафа, двух писателей, которые, отдав в свое время дань натуралистической моде, стали символами консервативной литературы. Правда, Кафка слегка поиронизирует над ними, однако при этом оказывая им уважение. Когда Макс Брод в начале их дружбы дал ему почитать отрывки из «Фиолетовой смерти» Густава Мейринка, в которых речь идет о гигантских бабочках, отравленных газах, магических формулах, превращающих чужаков в фиолетовое желе, Кафка отреагировал гримасой. Ему не нравились, говорит нам Макс Брод, ни насилие, ни извращения; он питал отвращение — мы продолжаем цитировать Макса Брода — к Оскару Уайльду или Генриху Манну. Среди его предпочтений, сообщает все тот же Макс Брод, наряду с великими образцами, Гете, Флобером или Толстым, числились имена, менее всего ожидаемые, имена представителей умеренной, порой даже застенчивой литературы, такие как Герман Гессе, Ганс Каросса, Вильгельм Шефер, Эмиль Штраус. Но у него были другие устремления, которые не замедлят проявиться. Когда мы переходим от 1903-го к 1904 году и от Поллака к Максу Броду, возникает впечатление, будто внезапно открываешь другого писателя. Почвенническая манерность исчезла, но на смену ей пришла другая манерность, может быть, еще более отвратительная. Пусть судит читатель: «Очень легко быть радостным в начале лета. Сердце бьется легко, шаг легок, и мы уверенно смотрим в будущее. Надеемся на встречу с восточными чудесами и одновременно отвергаем их с комическим благоговением и неловкими словесами — эта оживленная игра настраивает нас на радостный лад и вызывает дрожь. Мы отбросили простыни и продолжаем лежать в постели, не сводя глаз с часов. Они показывают конец утра. Но мы, мы причесываем вечер весьма блеклыми красками и бесконечными перспективами и от радости потираем себе руки, пока они не покраснеют, пока не увидим, как удлиняется и становится столь грациозно вечерней наша тень. Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой /.../». Кафка явно еще не нашел своего стиля; вскоре он так больше не будет писать. Впрочем, то, что он говорит здесь, просто и в то же время важно. Он хочет сказать, что не позволено при свете дня утверждать, что наступила ночь. Литература должна говорить правду, в противном случае она станет занятием самым пустым и одновременно наименее дозволенным. Ложный романтизм, ради удовольствия смешивающий правду и ложь и находящий удовольствие в надуманной меланхолии, возмутителен. Давно отмечено совпадение между этими размышлениями Кафки и идеями Гуго фон Гофмансталя того же времени. В частности, в одном из своих лучших и наиболее известных произведений, озаглавленном «Письмо», а в целом носящем название «Письмо лорда Шандоса», Гофмансталь в образе английского дворянина XVII в. выразил свои чувства в переломный момент века. Оно перенасыщено словесными излишествами тех, чью судьбу одно время он, похоже, мог разделить — д'Аннунцио, Барреса, Оскара Уайльда и др. Литература упивалась словами, она стала бесплодной и безответственной игрой. Молодой лорд Шандос утратил в этой школе смысл ценностей (значений) и одновременно вкус к письму. Он мечтает о новом языке, «на котором безмолвные вещи разговаривали бы с ним и с которым он, возможно, смог бы предстать в могиле перед неведомым судьей». Именно этот кризис литературы пытается передать при помощи своего еще не определившегося языка Кафка. Чтобы объяснить значение выражения «говорить правду», он охотно цитирует фрагмент фразы из другого текста Гофмансталя: «Запах влажных плиток в вестибюле»; подлинное ощущение передано здесь с наибольшей экономией средств: все верно и без преувеличения говорит о восприимчивом уме. Правдивость, которая на первый взгляд наиболее близка, на самом деле достижима труднее всего, настолько она скрыта злоупотреблениями языка, поспешностью, условностями. Гофмансталю, по мнению Кафки, удалось, по меньшей мере в данном случае, достичь правдивости. Кафка в свою очередь придумывает фразу того же рода: некая женщина на вопрос другой женщины, чем та занята, отвечает: «Я полдничаю на свежем воздухе» (буквально: «Я полдничаю на траве», но французское выражение звучит плоско и искажает смысл, к тому же в переводе невозможно передать сочность австризма jausen, что означает: слегка закусываю). Речь идет о том, чтобы отыскать утраченную простоту, вновь открыть «реальность», которую заставили забыть символический расцвет и излишества конца века. «Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой», — писал Кафка Максу Броду. Новая литература как раз и должна перестать быть декоративной. Арабеска должна уступить место прямой линии. Кафка совершенно не думает о том, что в языке существует власть воображения, магическая сила, способная вызвать на свет неизвестную ранее реальность. В нем нет ничего романтического, из всех писателей он, несомненно, наиболее последовательно далек от лиризма, наиболее решительно прозаичен. В одном из текстов последних лет он снова повторит, что язык остается пленником своих собственных метафор, что он может изъясняться только в переносном и никогда в прямом смысле. То, что он вынашивает в своем сознании до 1904 года, гораздо менее амбициозно: он хочет найти по эту сторону от новых беспутств литературы верное ощущение, точный жест. В сущности он находится в поисках Флобера, с которым еще не знаком, но за которым последует, как только прочтет его. Он знает, в каком направлении должен идти, видит цель, к которой стремится, будучи пока не в состоянии достичь ее: язык, которым он пользуется, остается погруженным в прошлое — почти в противоречии с поставленной целью. Тот же анализ применим и к произведению, которое было задумано и написано в эти годы, — «Описание одной борьбы». Именно благодаря Максу Броду, которому Кафка дал его прочесть и который сохранил его в ящике своего письменного стола, оно избежало огня, уничтожившего все другие произведения этого периода. Его первая версия может быть с квазиточностью отнесена к последним университетским годам (1904 — 1905). Позднее, между 1907 и 1909 годами, текст будет переработан. Макс Брод считал, что произведение завершено, но нет уверенности, что он прав: в «Дневнике» еще после 1909 года мы находим фрагменты, которые, похоже, предназначались для включения в «Описание одной борьбы». Это маленькое произведение весьма сложно: кажется даже, что оно, с его нарочитой бессвязностью, внезапными переменами изображаемой перспективы, предназначено для того, чтобы привести читателя в замешательство. Это свободная рапсодия, которая, не заботясь о логике, смешивает жанры и темы. Сначала есть «борьба», борьба робкого и смелого, худого и толстого, мечтателя и деятеля. Мы недолго задаемся вопросом, кто из двоих одержит верх, даже если в конце интроверт, более хитрый, скомпрометирует своего партнера, чья жизненная сила отягощена множеством глупостей, и заставит его сомневаться в самом себе. Но наряду с этой юмористической «борьбой», которая образует рамку повествования и в которой изобилуют автобиографические моменты, есть много абсолютно вымышленных событий, например история, как бы взятая из символического рассказа о «толстяке», очевидно, тучном китайце, которого носят в паланкине и который утопится в реке. Есть также разбросанная в разных эпизодах сатира на плохую литературу, начало чему положено еще в письме 1904 года Максу Броду. Плохой писатель тот, кто нарекает «Вавилонскую башню» или Ноя, когда тот был пьян, тополем полей, полагая, что для изменения мира достаточно слов и что роль письма состоит в замещении реальности воображением. Недостаточно назвать луну «старым бумажным фонарем» и назвать «луной» колонну Девы Марии, чтобы мир повиновался фантазии автора. «Описание одной борьбы» выступает против фривольности, глупого кокетства, лжи, которые завладели литературой. Но в то же время это наиболее причудливое, наиболее манерное произведение, более всего отмеченное вкусом эпохи, против которого оно направлено. Таков парадокс этого сочинения юности. Вскоре Кафка пойдет другими путями. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 19-05-2007 10:39 |
|
Витим Кругликов ЗАПИСИ БРЕДА И КОШМАРА: Н.ГОГОЛЬ И Ф.КАФКА Качественная наполненность слова и его исполнение ощутимо проглядывают в вербальном строении бреда и кошмара. Как известно, в чистом виде кошмар не доступен для анализа, представляет собой деформацию сна и является итоговым продуктом бессознательной работы сновидения. А с позиции поэтики эти продукты нашей психики прежде всего свидетельствуют о наличии эстетической способности чувства формы. Как выраженное бред и кошмар есть фиксация ставшести переживания формы. Но форма всегда конкретна, она тяготеет к предметности. И хотя в переживании явления это уже превращенная форма, в которой «замещающие и восполняющие связи действительности» «сжаты» в «квазисубстант», в «квазипредмет» (Мамардашвили), то бред и кошмар при расшифровке могут осветить «промежуточные звенья» реальности психической жизни. Поскольку все течение нашей жизни всегда проходит в каком-то русле, а это русло и есть форма жизненных проявлений, то и ситуации страха, неврозов, болезней оформляются конкретным бредом и кошмаром. Другими словами, в их интонационной и семантической стилистике присутствует особый порядок ритуализации, которая задается не только чисто психической определенностью индивида, но более всего его этнокультурной и социальной оснащенностью, контекстом традиции и условиями хронотопа ситуаций переживания. Каким же образом появляются кошмар и бред как формы и каково же устройство этих форм? Наши жизненные связи в поле переживания принимают ту форму, которая создается нами самими, когда мы помещаемся и располагаемся в том сегменте времени, где их можно выстроить. В кошмаре и бреду (как продуктах нашего воображения) превращенные формы психической жизни испытывают многократные и многоступенчатые преобразования исходных форм нашего отношения к переживаемому, что стремится к выражению вовне. А поскольку они есть вторичные выразительные продукты переживания, то качество формы тесно увязано и определено пластикой слова, сигнализирующей нам об устройстве их эстетико-художественной онтологии. Замечая непреложность формы в переживании бытия («Человеческий быт всегда оформлен и это оформление всегда ритуально (хотя бы «эстетически»). На эту ритуальность и может опереться художественный образ».) М.Бахтин фактически говорил о неуничтожимости очертаний бытия, которое в нашем восприятии может дистанцироваться в образ. О ней же писал Мандельштам: Не говорите мне о вечности я не могу ее вместить. Но как же вечность не простить моей любви, моей беспечности? Я слышу, как она растет и полуночным валом катится, но — слишком дорого поплатится кто слишком близко подойдет. Вопрос, собственно говоря, заключается в том, насколько бред и кошмар как формы выражения соответствуют качеству и силе переживаемого собственного отношения к воспринимаемому психическому объекту? Поскольку здесь этот вопрос больше обусловлен эстетикой и даже поэтикой, то естественным образом его можно разрешить в обращении к литературной записи бреда и кошмара, имея в виду наличие в них удвоенной формы выражения. НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ Хорошо, когда текст словесного произведения бугрист и сочен, когда в нем неожиданные виды, то вдруг раскрывающаяся или прикрытая куском тучи умопомрачительная даль, то слова образуют луг, затененный кустами и деревьями, или грот, пещеру, низвергающийся водопадик, а то фраза выплывает утесом или необычной грудой камней, распадается обрывом, ущельем или оврагом. А если перед глазами текст, ландшафт которого пустынен, монотонен, в чем-то зловещ и уж точно таинственен? Таинственен своей скукой, своей монотонной плоскостной поверхностью. Такие тексты есть у Чехова. Но, прежде всего именно таков текст загадочной гоголевской «Коляски». «Коляска» — какой-то скучный несмешной анекдот из русской жизни. Вроде как абсурдный пустяк, который рассказывает измученный желудочными болями больной своему сопалатнику по принципу «а вот у нас еще был случай». Но что за случай, и случай ли то, что сейчас ему вспомнилось, и что в этом случае было замечательного, по мере рассказа он и сам не понимает, и не помнит. Но вот настало облегчение и теперь хочется о чем-то говорить, о чем-то рассказать. Слова промозглым туманом сами по себе выплывают из его рта, обещая зарю выздоровления, и вот, наконец, вроде бы что-то находят. Что это как не бред наяву? Таков текст «Коляски». Но не просто бред, а запись одной из форм бреда, по которому располагается обыденная русская жизнь. Но прежде — реплика в сторону. Подвергая разглядыванию тот или иной текст и особенно текст известного автора, мы должны своим ухом помнить: при этой процедуре в нашем взгляде волей-неволей присутствует предпосылочный мусор в презентации объекта. Текст «Коляски» исторически состоялся, в нем есть то, что я называю контекстом патины. Мы читаем тексты Гоголя и потому, что они хрестоматийны, им давно уже придан эталонный статус в школьных программах по русской литературе, потому, что его читали другие, потому что эти тексты — исторически ставшая вещь, в них есть историческая нагруженность и восприятия, и отношения. Особенно отношения. Фактически мы сейчас уже читаем не текст «Коляски», а многочисленные тексты из общений (обращений) с текстами Гоголя. Кроме того, есть подозрение и в неустойчивости нашего чтения — мы ли читаем? или нами читает филология нашего времени? Ведь эстетическая нагрузка нашего глаза и уха отягощена тем, что тексты Гоголя в своей ставшести получили статус гражданственности, и вокруг них образовался мифологически-правовой охранительный круг. Образующийся в результате этих обращений компендиум интерпретаций, устоявшихся мнений и замечаний окружает текст любого известного автора, уже вошедшего в историю литературы, и создает пленку прожитого времени, аналогичную патине живописного полотна или иконы. Отбирая у нас право первого непосредственного восприятия такого текста, этот контекст патины на бессознательном уровне террористически указывает нам, как нужно читать такой текст. Для того же, чтобы встать в позицию чистого сознания приходится на каждом шагу анализа помнить, что этот мусор предпосылочных факторов, имеющихся в нашем сознании, необходимо постоянно элиминировать, разбивать, выходя на свое разглядывание текста. Тексты нормального большого писателя в силу их уникальности внутренней стилистики, специфичности их индивидуального облика, особости «языка писателя», отличны друг от друга тем, что каждый из них имеет свое специфическое выражение. И это выражение определено фактурой лица текста. Но фактура есть производное от стиля. Не только от Большого стиля эпохи, но и, прежде всего от индивидуальной стилистики автора. Если Большой стиль определяет смену фрака на пиджак, то кутюрье, хотя и отталкивается от визуального стандарта времени, создает свой фасон пиджака в присущей ему индивидуальной манере. Но если лицо текста в принципе вечно, то выражение лица текста во многом определено тем, что Мандельштам назвал «шумом времени». Оно есть прямое следствие того настроя, с каким этот текст встречает его время. Каждое время по-своему относится к такому уже ставшему тексту. Так современники Гоголя, встречаясь с выражениями его разных лиц-текстов, читали их как комически-сатирические и обличительные. Розанов вычитывал мертвенность жизни в его персонажах, Белый разбирал поэтику его текстов, их мелодическую структуру и воздействие на других русских писателей, а Набоков, обставляя встречу с его текстами интеръером гоголевской же души, своим воображением заставлял тексты Гоголя выговариться так, чтобы можно было бы увидеть их фантастическую трансцендентную жизнь. Набоков как бы провоцировал его тексты на то, чтобы из них выразился ужас бытия существующего и могущего существовать. Выражение лица текста оказывается изменчиво и его смена зависит от доброты или злобы времени, с которым оно его встречает, то есть от качества самого времени. Если из анализа внутреннего устройства текстов Гоголя можно с успехом извлечь смысл и лучше всего это продемонстрировали А.Белый в книге «Мастерство Гоголя» и Б. Эйхенбаум в знаменитой статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя», то лицевость текста образуется не только из того, как он сделан, а и из того, как текст случился, как он получился. Всякое лицо, если оно лицо, — суть рождения. Радостно-изумленный возглас Пушкина «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — о том, как у него, Пушкина, получилось. Получился текст, лицо которого нечаянным (несделанным) образом вышло интересным, удивительно прекрасным для самого автора. Не раскапывая пласт отношений между планом содержания и планом выражения, обращу внимание на выражение лица текста «Коляски». Оно строится на недоговоренностях, неясных намеках, на интонации неопределенности в обрисовке главного персонажа Пифагора Пифагоровича Чертокуцкого. Уже это нелепое сочетание имени и отчества свидетельствует о бредовом характере провинциальной жизни: ведь человека с таким именем-отчеством в действительности быть не могло. Но вот же он есть, говорит Гоголь, и поступает именно так, как может поступать живой русский помещик-обыватель, исполненный тщеславия, фанфаронства, глупости и пошлости. Любовь же к вычурности была, как известно, одной из характернейших черт мелкопоместного дворянства России того времени. Эта нелепость имени-отчества Чертокуцкого есть лишь акварельный оттенок бредовости русского бытия. Интонация неопределенности в тексте усилена тем, что в ландшафте текста черты губернского городка и его быта поданы в брутальной бугристости, в яркой ироничной конкретности. Если задаться вопросом: о чем эта повесть Гоголя? — то ответ после чтения и после перечитывания один — ни о чем, то есть о пустоте. Но поскольку текст «Коляски» чем-то держит читателей 20-ого века, то, возможно, это пустота, если и не значимая, то уж точно мощно напряженная. Но это значит, что Гоголь в этом тексте рассказал нам ни о чем, поведал о пустоте. И снова возникает удивление с союзом НО — но на чем держится это повествование о пустоте, о ни о чем? Если это повествование ни о чем, то текст этот не может быть ничем иным как пустыней. Но как жизнь пустыни держат подземные глубинные воды, так и в этом тексте мы можем обнаружить следы глубинных залеганий живого смысла, который образует подспудную кристаллическую сетку, держащую и удерживающую словесную почву. Словесный строй «Коляски» не выражает знаковую сеть реальных отношений, не несет на себе возможностей рождения эмпирического смысла, не заключает в себе необходимость реальных коннотаций, а развертывается в совершенно другой, параллельной данной сетке, в своей воображенной игре языковой вещественности. Текст выражает Игру вещей языка, которые одушевлены или опредмечены, и в персонализованности своей образуют собственную реальность, которая является параллельным слоем поверхности текста. Поэтому-то правомерно замечание Эйхенбаума (по отношению к «Шинели»), что «обычные соотношения и связи (психологические и логические) оказываются в этом заново (курсив Эйхенбаума — В.К.) построенном мире недействительными и всякая мелочь может вырасти до колоссальных размеров». И здесь важно, (во всяком случае, именно в «Коляске»), что такая мельчайшая фигура речи — есть та «мелочь», которая является той частью текста, что больше всей целостности текста, поскольку она есть «точная точка», предназначенная показать и тем самым выразить вот эти персонализованные страдания и приключения реифицированных языковых структур. Вообще у Гоголя мертвенность фигур (Розанов) и заброшенность в будущее воображенного мира (Набоков) (эдакое будетлянство наяву) потому, что у него язык жив сам по себе, этот язык обладает имманентной «живой жизнью» (Вересаев). Недаром Эйхенбаум писал, что его тексты писаны «звукоречью». Его язык — это дистиллированная и в тоже время живая персональность. По Белому у Гоголя: «язык — в „языке языков“: в мощи ритмов и в выблесках звукословия, или в действиях опламененной жизни, — не в правилах вовсе; звукопись, переходящая в живопись языка, есть выхватившееся из вулкана летучее пламя». Вот этот «язык языков» — это и есть то знаменитое «качества языка», которое имеют в виду Пруст и Мамардашвили. «Язык языков» — фактически есть «живая жизнь» языка, которая развертывается под поверхностью коммуникативно-направленного письма или речи. «Качества языка», этот «язык языков» — есть кристаллическое образование, из которого вырастает, ветвится, распускается листьями возможность к коммуникации, к контакту. Только поверхностный слой языка обращен к Другому, только он призван к обмену знаками, к трансляции означаемого и означающего. Но чтобы родилась эта возможность, чтобы появилась поверхность «языка языков», глубинное пространство должно сгуститься, в нем должны спродуцироваться внутренние связи, взаимозависимости, отношения между раскаленными кусками плазмы первичных не вербальных, но речевых артефактов. «Продукт процесса с момента восприятия слухом автора до подачи его как ответа на спрос переживает три стадии: рождение образа из звука, рост и членение образа в систему образов, и наконец, всплывание в ней тенденции, совпадающее с заковкой в слоговую форму. Формование протекает двояко: от звука к слоговому оформлению, как процесс осознания стиля, где слог — итог осознания; и от звука посредством сюжетного образа к осознанию смысловой тенденции». При перечитывании текста «Коляски», этого достаточно простенького нелепого и несмешного анекдота, возникает подозрение, что повесть предложена и предъявлена в качестве художественного произведения не впрямую, не в открытую, а в каком-то закрытом ключе. Возможно, можно было бы считать, что это не просто закрытый ключ к этой повести, что это бездарная вещь, неудавшаяся Гоголю повесть, его эстетическая неудача. Однако все те требования, которые мы могли бы предъявить писателю и все параметры ее исполнения, не вызывают сомнения в том, что это случай высококлассной и мастерской словесно-художественной игры, что этот случай овеществлен, что овеществленный в статус лица этот текст то подмигивает, то хмурится, то раздражается, улыбается или гневается. То есть, сам текст «Коляски» постоянно играет своими выражениями, и нет никаких сомнений в том, что этот текст — художественная вещь, что этот текст-вещь заключает в себе внутреннюю фактуру передвижений и событий, представленных и предъявленных персонажей, что эти персонажи живы. Хотя их переживания и движения души во многом для нас нелепы, глупы, не значащи, но Знаки многих их актуаций мы узнаем. Однако остается непонятным, чем держит читателя этот текст? В чем и какова форма этой вещи, форма, как внутреннее устройство этой повести, как и что она выражает, несет ли она в себе какую-то часть внутренней стороны символа? Ведь всякий художественный текст или всякий текст-произведение, поскольку он произведен, можно считать в определенном отношении символом. Ведь в нем развернута, из и через него предъявлена Игра, в нем наличествует и есть то, что составляет условия этой игры, то есть, в нем есть и наличествует то, что осталось «за кулисами» этой словесной игры. А без кулис — нет театра, и без внутренних приспособлений нет актера. Достаточно тривиальна мысль о богатстве гоголевского языка, его сочности, его неожидаемой образной структуре, выражающей его обостренное чувство места, чувство предмета, чувства вещи, конкретного события. Но именно в тексте «Коляски», в отличие от его «Шинели», «Портрета» и других произведений (хотя в «Ревизоре» это уже использовано во всю мощь), удивляет, что Гоголь в поворотных моментах, призванных изобразить внутренние побудительные мотивы движения и поступков персонажа, выводит на авансцену повествования слова неясные, неопределенные. Показывая, демонстрируя в развороте течение сознания персонажа, Гоголь этими неопределенными словесными эквивалентами указывает, что вот в этом месте у персонажа образовалась дыра в движении его мышления, что вот здесь, в этом местечке сознания нет, есть его отсутствие, пустота. Известно, что повесть начинается с ядовито-красочного изображения провинциального городка, который выписан со всеми деталями неожиданными метафорами гоголевского языка. Но, представляя читателю Чертокуцкого, в повествовании нарастает интонация сомнительности и неопределенности. Попробую расположить в один ряд эти намеки, неясности, неопределенности. Он пишет, что у Чертокуцкого была «неприятная история: он ли дал кому-то в старые годы оплеуху, или ему дали ее» (с.162), что «словом, он был помещик как следует... Изрядный помещик» (с.163). После приглашения генерала и офицеров к себе «Чертокуцкий выступал вперед как-то развязнее...» (с.166). Затем «взял уже было и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался...» (с.167). Венчает описание этого нелепого поведения героя (еще задолго до его опьянения) следующая фиксация безмотивности. «Чертокуцкий долго не знал, садиться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно, очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравши два роберта, Чертокуцкий опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавши наперед: «Пора, господа, мне домой, право, пора». Но опять присел и на вторую партию» (с.167). (Курсив в цитатах мой — В.К.) Эти «почему-то«, «как-то так странно«, «ему показалось«, «нечувствительно очутился перед ним«, повторы «позабывшись, выпил«, которым как бы удивляется автор, дают замечательную ноту — крик движения пустой души. Изобразить его невозможно, но вот этой некоторой избыточностью в пользовании слов, выражающих неопределенность (особенно упираясь на частицу «то» — «как-то», «кому-то», «как-то так») можно обрисовать те призрачные границы душевного напряжения пустоты смутного бытия. Позже такую абсурдную распаленность души, лишенной содержания, мастерски живописал А.Чехов и в рассказах, и в пьесах. Для чего же это делает писатель, обладающий изощреннейшей способностью красочного словесного изображения самых тривиальных ситуаций и положений? Может быть неопределенность призвана выразить две стороны чувствования Чертокуцкого и рисует необязательность, безответственность человеческого движения, которое неопределимо в силу того, что возникает столкновение неясных и неопределенных желаний. Малоопределимых желаний. Именно потому, что они не обладают силой, которые являются эстетической направляющей и свойством (качеством) характера Чертокуцкого. Какие? Тщеславие — желание покрасоваться, заявив, что у него есть лучшая вещь — коляска. В тоже время, поскольку он почему-то, зачем-то безумно «надрался», — то и здесь столкнулись желания — и желание задать обед, где он также может покрасоваться и желание этого не делать. Для Чертокуцкого то, как он уже рассказал об этом, высказанное уже как бы сделалось, он уже как бы все произвел, совершил все необходимое, потому что все его существо, его тело, но не его сознание знало, что он соврал, что его коляска самая обыкновенная. И поэтому те приготовления к обеду, который должен был быть, который будет, на самом деле, реально, не мог он сделать, но для него уже представились как бы сделанными. Если аналитически посмотреть на эти словесные структуры неопределенности, то в этом было изображено и желание, чтобы это не состоялось, желание избежать того позора, который должен был наступить при осмотре коляски. Результатом столкновений этих многочисленных желаний, которые можно обозначить как неясные желания, поскольку корни их располагались в поле бессознательного, явилось образование многочисленных дыр — пустот — в мышлении этого персонажа. И главное — все эти «как-то так« остался, «какая-то» история — свидетельство того, что modus vivendi данного существа заключен в узкой полоске хаотического передвижения по внешней кромке переживания событий. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 19-05-2007 10:48 |
|
Для того чтобы изобразить и выразить эти пустоты сознания, вот то самое «ни о чем», Гоголю и потребовались нейтральные структуры языка, нейтральные речевые фигуры текста, которые и выражают то состояние сознания, когда оно отсутствует или не проявлено. Я думаю, что в этом тексте-произведении Гоголь сделал поразительное, незамеченное ни по его выходе, ни в последующих рефлексиях, открытие метафизического характера. Здесь он явил нашему взгляду в пространственной форме один из антропологических узлов человеческой субъективности, а именно — приоткрыл завесу над природой желания. Возможно, этот узел, стягивает все нити художественного текста, тем держит всю повесть и делает ее вещью. Интересно, что когда Гоголь изображает гастрономические желания Чертокуцкого-гурмана, а они у него совершенно явственны, явны, четкие и сильные, то для их описания он использует всю ту гамму сочных выразительных средств, которая так характерна для его языка. Эстетика характера Чертокуцкого подсказала Гоголю образ будущего Хлестакова. Ведь стержневое свойство Хлестакова как личности — это столкновение на узком, даже точечном временном пространстве переживания многих чувств, многих желаний. Ведь Хлестакову «много чего хочется» и все в одно время и сразу. Неясность, непроявленность многих чувств одолевают и Чертокуцкого, и Хлестакова, и Манилова, еще больше их у Ноздрева, который ими уже совершенно опьянен. То есть неопределенные фигуры речи в изображении поля неясной сенситивности субъекта помогают дать наиболее аутентичное описание того, как движется и протекает чувство безответственного отношения к жизни и к самому себе в этой жизни. Неопределенность, неясность, ситуация множественности желаний фактически есть знак безмотивности воображенного субъекта. А при четкости обозначения телесных желаний (почему-то остался, зачем-то выпил и проч.) выводит повествование на уровень клоунады. Чертокуцкий как бы цирковой Рыжий, который неизвестно зачем, для чего и откуда появляется. А ведь смутность и нелепость его движений, так же как дурацкие и несмешные кривлянья даже очень хорошего клоуна есть всего лишь проекция того бреда, который мы носим в душе и стремимся выплеснуть в лицо миру, но не знаем как. И тогда появляется Пифагор Пифагорович. ФРАНЦ КАФКА Почему Кафка? Вместо обоснования сошлюсь на авторитет Борхеса, который как раз и отметил у него качество литературных записей кошмара: «Никто еще не догадался, что произведения Кафки — кошмары, кошмары вплоть до безумных подробностей«. Когда в 1965 году я познакомился с текстами Кафки, у меня образовалось четкое ощущение, что существо, создавшее их, — не писатель, не литератор. Как в известном анекдоте чукча — не читатель, так и Кафка — не писатель, не существо, творящее литературную реальность, некое словесное воображаемое. Понять тогда я этого не смог, но одно понял точно, что читать Кафку можно... — перечитывать нельзя. И сейчас, читая и перечитывая текст «В исправительной колонии», еще и еще раз в этом опыте разбора букв убедился, что чтение-перечитывание его текстов — не удовольствие от текста, а мучение, пытка, прохождение пытки. Получение удовольствие от такого текста — это возможность для мазохиста. А так — и сознание не болит, но что-то внутри твоего восприятия мучается, мечется в желании прекращения пытки. Мое индивидуальное понимание наполнено не желанием понимать, а желанием не понимать, оборвать чтение этого разгулявшегося в каком-то чуждом для меня пространстве и выплеснувшегося ко мне «нЕточным» воображением в виде вывернутой стороны набоковской «нетки». Конечно это сугубо личностное, субъективное восприятие. Но если, отталкиваясь от него, окинуть взглядом горизонт литературной окрестности и посмотреть, где располагается проза Кафки, то можно обнаружить некоторую несовместность, несоотносимость, несоответствие и не сопрягаемость текстов Кафки и всего литературного мира. И действительно, поскольку литература — воображаемая реальность, то, как отчетливо видно, что Кафка не впадает в эту реальность! Он не сопоставим со всеми и любыми линиями литературной реальности, он вне какой-либо связи с любыми феноменами словесного воображаемого. Если Джойс, Пруст, Музиль, а из наших — Белый, Ремизов, Платонов, Набоков, и даже японец Акутагава (с его «Жизнью идиота»), то есть наиболее родственные ему писатели — литераторы в том смысле, что они выполняют или задают свои правила литературного воображаемого, то Кафка вне этого словесного устройства. Его тексты отделены от литературной вселенной прозрачной, но очень прочной пленкой, они закрыты и никак не связаны с литературными объектами. Поэтому он даже не дыра в транспарентном мире словесности, который живет как литература, а он вне его упорядоченного устройства или его беспорядочного хаоса, но главное — он внутренне не связан с теми тропами, которые пролагает в хаосе литературного воображаемого любой художественный артефакт. Но тогда кто же он? Ведь его галлюцинации, представленные и выраженные в словесно-текстовой форме — это не изображение воображаемого, это вообще не воображаемое. Они — изображение складок реальности, точнее, складок ИЗ той особой реальности, что есть, но закрыта для обозрения. У нас нет таких глаз, такого зрения, которое может заглянуть туда, не говоря о том, чтобы созерцать этот не прощупываемый, но присутствующий совершенно объективно в нашей душе ужасный мир. Если вспомнить горизонт остраненного взгляда Кафки на человеческую жизнь, которая является нам естественным, природным хаосом, заполненного абсурдно мечущимися коллективными и индивидуальными телами, а порядок устройства человеческих связей и отношений в плане формы неуловим в силу их динамического состояния, то ясно, что он жил в пустотах хаоса. Или — не жил, но обретался там. И его тексты — это издание и «издавание» воплей, криков, нарративного мычания, открывающее для показа безумное устройство антропоморфной вселенной. Его воображение, — если это воображение, — есть видение таких пустот. Эти пустоты принципиально непредставимы: невозможно поведать о них так же, как невозможно показать то, что невидимо, но есть, и невозможно рассказать о незнаемом, но существующем. Но Кафка смог эти пустоты и показать, и рассказать о них. Мог показать, потому что он пребывал в тех местах хаоса, где есть лишь отсутствие. Но это пустоты — пустоты для глаза, их держит событийность внутрителесной органики. (Предмет обладает видимостью, а вещь обладает... невидимостью. Вещь — невидима, но вещь — есть.) Когда я читаю, то пытаюсь понять не только то, что написано и что изображено в этом написанном, но и то, как и кто это написал. Вообще, то, что написано Кафкой — есть запись видения его кошмаров. Это видно невооруженным глазом и отмечено практически всеми его читателями. Да и в целом все его творчество фактически есть странствия из кошмара в кошмар, сопряженные наказом (наказанием), который по сути своей — приговор, обращающий краткие мгновения между окончанием одного кошмара и началом другого также в кошмарную пытку — неизбежность и необходимость письма. Но тогда что же он «готический» писатель и его письмо есть готическое воображаемое? Ну, нечто вроде его пражского современника и соплеменника Г.Мейринка или прозы М.Элиаде? Но в том-то и дело, что именно в стилистике наглядного умозрения его письмо отлично от литературно-воображаемого. Тексты Кафки перед нами предстают в литературном обличии. Они жанрово определены как новеллы, романы, письма (эпистолярий). И эти признаки поверхности его текстов заставляют нас читать их в таком качестве литературного произведения. То есть, они — та рамка картины, которая нам говорит: вот это пейзаж, а это натюрморт и тем самым каждый текст относят в порядок литературы. Более того, если пройти эту эмблематичную поверхность текста и опуститься вглубь, то и тогда мы встречаем другую поверхность, смысловые признаки которой являют нам также литературные знаки устройства поэтики этих текстов. Эти знаки — символ, аллегория, притча. Но насколько литературны эти признаки (а может призраки?), которые приковывают читателя к тексту и держат его в состоянии возбужденного исследователя? А оно характерно тем, что сознание читателя-исследователя занято расшифровкой этих призрачных знаков. Коль скоро притчи Кафки — это кошмары, то интересно не только и не столько дешифрованное содержание потаенной стороны символа, работа по которому с успехом проведена и производится психоаналитическими интерпретациями, сколько само производство формы этих символов, то есть производство самих кошмаров. И, прежде всего — не в психоаналитическом или социетальном аспектах. Чувственно-смысловую (не психоаналитическую, вообще не медицинского порядка) форму, в которой образуются кошмары и которая является условием и обстоятельствами для эффективного производства кошмаров, изобразил в одной из своих лекций Х.Борхес. Анализируя собственные кошмары и ссылаясь на Гонгору, писатель Борхес утверждает: «сны и кошмары — вымыслы, литературные произведения». И это действительно так для литератора. Только к этому следует добавить, что кошмары такие литературные произведения, такие вымыслы, которые созданы вне- и без замысла. А именно это выбрасывает их из пространства литературного воображаемого. Кроме того, достаточно очевидно, что кошмары — это такие произведения, которые создались, случились в нас, но без нашего участия. Читая борхесовскую лекцию о кошмаре, вижу: — кошмар как разновидность сновидения не имеет временной протяженности; «картинки» кошмара наползают друг на друга, натуральная последовательная смена и появление тех или иных персонажей, одушевленностей, субъектов действия в кошмарах случайно — они появляются неизвестно когда и неизвестно где и откуда; — в кошмаре ломается, «сминается» и время и пространство; кошмар принципиально не соответствует и противостоит натуральному нарративу, поскольку его словесное воспроизведение всегда позднейшая обработка — априорность пространства-времени в кошмарах подвергается серьезному испытанию: в них мы стремимся подвергнуть испытанию (проверить на прочность) наши чувство времени и чувство пространства, то есть поставить опыт над нашим переживанием таких вещей как «еще нет — уже нет«, «есть везде — есть нигде«. — кошмар — это состояние сознания, которое можно обозначить как оцепенелость нашего мыслительного взора, нашего умозрения, его застывшесть, остекленелость. Но оцепенелость сознания — фактически сингулярная точка времени. Причем это такая точка времени, которая образует микрокосм иного движения времени, его иного расположения, смещения временных пластов, взвихрения и бурления, взрывов и разрывов в той или иной временной определенности, во временной целостности. — «образец кошмара со всеми характерными для него чертами: физические страдания, вызванные бегством и ужас при виде сверхъестественного»; — все кошмары «подразумевают нечто сверхъестественное»; — «в кошмаре присутствует страх особого рода и этот страх выражен в фабуле». Сверхъестественное в кошмарах-текстах Кафки — это не мерзкое насекомое, в которое обратился Грегор Замза, это не сама машина наказания, которая записывает на теле осужденного приговор, сверхъестественное здесь — это неожиданные и невозможные формы воплощенности времени (оно естественно, натурально, когда оно прошлое-->настоящее-->будущее) и воплощенности Пространства, которое, как оказывается, может быть заполнено тем, что не имеет границ. В то заблуждение, что произведения Кафки находятся в поле порядка литературы, нас вводит его способность при записи кошмаров пользоваться литературным инструментарием. Тексты его исполнены масштабными метафорами, аллегориями, являются притчами. Нелишне отметить, что эти средства существуют как формы выражения. В воспринимающем взгляде они, как и в целом его тексты, предстают символами. Многие читатели-исследователи Кафки по-разному опробовали на понимание именно смысловую субстанцию кафковской метафоры, интерпретируя ее как чисто филологическую (литературную) природу, так и в обнаружении ее парафеноменологических связей с эйдосами и фигурами контекста культуры. При этом очень часто нефилологическая интерпретация кафковской метафоры выводит эти тексты за пространство литературы. Вероятно, целесообразно посмотреть насколько этот литературный инструментарий в прозе такого визионера является патологичным по отношению к миру литературы. Вот им сотворенное (вымышленное? воображенное?) «В исправительной колонии». Что это? Как текст — это сплетенное (сотканное) есть крик, в котором слитно присутствуют означающие и означаемые. Они фактически здесь неразличимы. И если мы проводим хоть какую-то аналитическую процедуру по их различению, то мы попадаем в тот круг, когда мы находим то, что очевидно, что не является другой, потаенной стороной символа; мы таким образом ищем и находим то, что не нужно искать. Как произведение — это изведенный из недр собственной личности и преображенный крик в форме то ли новеллы, то ли пророческой притчи антиутопического характера. Как притча — эта «штука» («что посильней» и т. д.) аллегорическая притча, где в сильной степени осуществлено совпадение знаков текста со знаками реальности. И по законам аллегоризма реальность Иного требует для транспортировки (хотя и мощного, но одновременно и узко-точечного) иносказания. Поневоле задумаешься. Как притча текст «В исправительной колонии» дидактичен в очень сильной степени. Это «качество языка» текста заставляет меня созерцать в нем символ. Причем заряд дидактики в тексте толкает восприятие читать его как прямой, непосредственный, бросающийся в глаза символ социальности. То есть я вынужден читать и расшифровывать этот текст-символ как такой, в котором «упакована» в оболочку метафоры фактура социальности, имеющая трансцендентную (запредельную) основу. Именно предпонимательное (социологическое или психоаналитическое) прочтение многих кафковских метафор обращают их в символы социетального или психологического порядка. И большинство прочтений кафковских кошмаров-видений именно таковы. Но как притча данный текст есть символ по отношению к самому себе. Но тогда — как он сделан? И как притча он многосмысленен, он не двух-, а многочастный и потому этот текст есть сверхсимвол. И вот это отношение к самому себе означает, что текст обнаруживает свою символичность по отношению к его создателю, автору. Мамардашвили много раз отмечал, что из содержания чувства мы не можем узнать, что и как мы на самом деле чувствуем. Тоже самое можно сказать и о содержании наших чувств, когда мы располагаемся в такой сфере бессознательного, как кошмар. То есть, содержание бессознательного чувства тем более ничего не может нам (или нашему психоаналитику) сказать, что мы на самом деле чувствуем. Поэтому из содержания записанных кошмаров Кафки невозможно узнать, что действительно чувствовал автор, путешествуя в своих кошмарах и обнаруживая себя в них. Автор не умер, автор умирает в нашем воспринимающем взгляде тогда и только тогда, когда мы читаем сквозь него только в нем случившийся текст. (Недаром Кафка называл продукты своего письма «свидетельствами одиночества».) Читаем, пытаясь расшифровать, и действительно расшифровываем этот текст-символ. Но кто автор?! Живая и один раз случившаяся уникальная личность или ... язык? Если язык, то, читая, мы обнаруживаем все новые и новые грани социальности, которые язык при посредстве визионера Франца Кафки выбормотал в текст. И сколько бы не выявляли в нем современных нам потаенных смысловых структур и слоев, мы и будем вычитывать социальные качества языка. Если личность (а ведь притче свойственна пророческая тональность), то Кафка здесь пророк. Но пророки именно личностно разнятся. В качестве пророка свое видение кошмара он направляет манифестирующим образом в будущее как антиутопию. Особенно это ярко видно в финальных страницах текста, которые не обладают художественной убедительностью в силу избыточной литературности. Почему аллегория излюбленный прием у Кафки? Но аллегория у Кафки не прием, это не излюбленное свойство его письма, хотя я не знаю ни одного кафковского текста без аллегории. Аллегоризм Кафки — единственная возможность (и потому форма) воскричать и тем самым вступить в коммуникацию. Вступить и показать в «ином сказании« то, что видят и знают все, то, что не желает быть видимым, не может быть созерцаемым без разрушения наблюдаемого, и то, что неприятно рассматривать, на что не хочется смотреть. Какое же тут удовольствие от текста. Но кто говорит притчами? — Пророк. Кто же такой пророк и почему говорит притчами пророк Франц Кафка? Для чего говорят притчами? — Чтобы подчинить своей моральности и своей моральностью независимую моральность Другого. Но что такое притча? Притча — это голый всплеск прямого выражения, где выражение взбухает взрывом языка, крепко сбалансированном внутри протяженности персонального речевого пространства. Притча — всегда указующий перст ... в тайну, поскольку ее семантичное поле многосмысленно; притча терроризирует воспринимающего, поскольку в ее содержательном пространстве царствует и подавляет всяких инакомыслящих (или инаковидящих) идеальная разумность. И эта идеальная разумность далеко не всегда истинна и прекрасна, да и еще склонна видоизменяться в зависимости от погоды того тысячелетия, которое «у нас сейчас на дворе». Как иносказание — притча есть Ад, поскольку это словесное место выложено, составлено из камней императивности. А всякая дорога по рельсам императивности ведет в преисподнюю. Кто согласиться жить в Аду?! «Неужели кошмары — это щелка в ад?» Притча — есть иносказание и как сказание иного оно есть местоимение. В ней заложено стремление, поскольку есть воля и императив, сказать Иначе об уже сказанном, об известном, знаемом, стремление переназвать. И содержательно, и как форма притча выступает собою вместо имени (названного), располагается на месте уже существующего имени. В качестве местоимения притча расширяет пространство уже бывшего имени, увеличивает его, чтобы дать имени максимальную свободу выражения. Поскольку в местоимении кроется претензия быть началом нового, другого языка и так как весь язык Кафки притчеобразен, то притча как местоимение выступает и проявляет себя в его текстах в статусе Другого по отношению литературному порядку, к законам и правилам литературно-воображаемого. Ведь притча — это не только и не столько литературный прием, но и средство сакралистики, средство морального поучения (научения), способ коммуникации и выражения трансцендентного смысла морального закона. Возможно, притча — след запрета на имя Бога. В кошмарах как вымыслах у Кафки мыслимая видимая ситуация додумана и продумана до конца. Символ Кафки — есть символы самого языка, символы тех событий, которые переживает психическая жизнь его тела. Кажется, местоименность притч Кафки вырастает из неизвестно чего. Откуда этот императив? — Изнутри тела Этот ответ удивительно прост, поскольку очевидно до автоматической незамечаемости, что в этих дидактических визуальных текстах-видениях присутствует тот особый акцент, который у этого записывателя кошмаров связан с маниакальным стремлением Кафки как бы под микроскопом рассмотреть внутреннюю жизнь физического (анатомического) тела. Знаменитое «Превращение», «Голодарь», «Отчет для академии», «Певица Жозефина, или Мышиный народ» и многие другие прямые, непосредственные притчи посвящены изображению событий, свершающихся в биологической органике тела либо в аномалии от его нормальной физиологической устроенности. Психическая жизнь персонажей Кафки сплошь физична. И эту физику он обнажает приемом деантропоморфизации тела, доводя (додумывая) движение каждой единицы вымысла до окончательной точки, до той точки, за которой обнаруживается невозможность помышления. Кто и что в этом нутре тела приказывает Кафке переназывать, выступить со словом в качестве Иного имени? — Жизнь, проистекающая внутри тела, событийная фактура движения телесных потоков ненаблюдаемой и неизобразительной природы. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 19-05-2007 10:50 |
|
Если обратить внимание на ритмику этой квази-новеллы, то обнаруживается, что в ней Время сминается наличием двух параллельных рядов наррации. Эти нарративные ряды различаются по качеству Времени. Собственно весь текст сплетен из двух временных ниток. Одно время — объективированное, которое в натуральном, естественном виде подается читателю через неслышимый и неявный повествовательный взгляд Путешественника, — является стержневой основой. Но на ней в тексте Кафки ткется нить (в ткачестве эта нить называется «утка») ненатурнального, сверхъестественного времени. Она вытягивается из наррации офицера, когда он повествует о процедуре суда. Время в рассказе офицера — обратная сторона времени того невыраженного в словах повествования, которое мы прочитываем в наблюдающей позиции Путешественника. Причем нарративная вопросительная констатация Путешественника («Но ведь, разумеется, у него должна была быть возможность защищаться...«) прямо взывает к разуму и заключает одну мысль — необходимость в ситуации суда разумных поисков истины. В обычной разумности именно с этого начинается и идет отсчет нормального натурального временного течения мысли. В повествовании офицера — нет времени на установление истинности и качества деяний осужденного, оно неважно, не значимо. В рассказе о «сути дела» точка закона — «правило «Виновность всегда несомненна» — дает начало и центрирует наррацию офицера не в установлении истины и, следовательно, вынесения справедливого приговора. Приговор — уже есть, еще не в словах, но в пространстве суда и наказания. Время рассказа начинается отсюда и это движение времени сознания — не натурально, оно — сверхъестественно. Такое нарративное время для нас априорно не значимо, мы не родились в нем, оно априорно нам не дано; для того чтобы его понять собою, его должны понять, то есть, пережить наши органы чувств, наша психофизиологическая субстанция, наша телесность. Вот только один пример того, как здесь говорит тело. «... он (офицер) был чрезвычайно утомлен, дышал, широко, открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка». В этой реифицированной метафоре мерцание эроса (эффект появления — исчезновения), обнаруживает сексуальную озабоченность персонажа, и в то же время есть необходимый элемент для наслаждения оргазмом другого, когда машина наказания работает в режиме акта совокупления. То есть, внутренние энергетические потоки, пульсирующие в теле, обращают сознание офицера к смерти. И предфинальная сцена, когда аппарат работает в режиме кровосмесительного coitus'а, разваливаясь сам и эротически неумело уничтожая офицера, — фиксирует конец, законченность мыслительной жизни тела в его пара-бытии. Осмысляя природу кошмара, Борхес обращает внимание на то, что он производит в нас, как в созерцателях, наблюдающих собственное производство видения. Он говорит о том, что сон производится в пространстве страха — страха принципиально незаписываемого, невозможного для наррации. «В пересказе сон не кажется каким-то особенным, но когда он снится, он страшен»; «... ощущение ужаса прежде всего и есть кошмар»; «кошмару присущ ужас». И здесь важно отметить, что Борхес абсолютно точно указывает, что именно в Страхе не транслируется, поскольку для этого «что» нет имени, нет названия, то есть, нет слова, нет формы выражения. В кошмаре отсутствие формы выражения — есть пленочная граница между автором-участником-производителем кошмарного видения и автором-созерцателем кошмара. Непередаваем именно Ужас как то, что встречает нас и остается в нас на выходе из видения. Ужас очевиден и потому глаз его не видит. Глаз видит объекты. Но ужас не объективируем. Понятие ужаса даже в вербальном его выражении сформировалось у нас из представления о качестве и временном пространстве переживаемого страха. Можно предположить, что когда-то понятие ужаса было только характеристикой страха. В понятии (именно в понятии, а не в самом чувстве) ужаса вмещены одновременно две переживаемых мышлением сферы. (1) Ужас — это шоковый удар по сознанию, которое в силу этого попадает в поле невозможности аналитической работы над своей целостностью. Это состояние сознания обнимает понятие парадокса. То есть, оно помещено в поле парадокса, который принципиально (энергетически) неразрешим. Мышление цепенеет. И оцепенелость сознания — прямая и непосредственная форма точка переживания Ужаса, которая лишена формы выражения. (2) Одновременно тот же самый миг, в этом поле шокового удара по сознанию, содержит нашу Оценку (т.е. рефлексию) в качестве волеизъявления и волевой направленности нашего мышления, которое ведь до сих пор двигалось по одной дороге, а теперь с необходимостью должно преодолеть преграду. Возможно, что у Кафки был особым образом смещен угол мыслительного умозрения и его внутренние глаза видели те характерные признаки и качества страха, которые очевидны до неразличимости и потому неразличимы. Очевидность Ужаса свидетельствует о том, что Ужас — это нечто невероятно простое. Как простое, а не сложное, Ужас знаменует окончательность, конец, всякого силового действия над вещью. Даже если это естественная смерть. А у Кафки Ужас прост, потому что его кошмарные видения просты. Их не нужно представлять, их не нужно воображать; их нужно только записать для изображения так, как они появляются. И как обыденное простое эти «свидетельства одиночества» возможны для записи протокольным языком канцеляриста. Протяженное поле Ужаса мы понимаем не только «умом ума», но и «умом сердца» (Достоевский), когда обнаруживаем себя в стране кошмара. Здесь, во-первых, сразу же следует отметить, что кошмар никогда не случается в наших сновидениях один. Один кошмар может в нас доминировать, он может нас донимать, и повторяться так, что мы его долго можем воспроизводить наяву. Попадая в случай кошмара, мы перемещаемся из одного кошмара в другой, пытаясь в своем бессознательном сновидческом состоянии вырваться наружу, во вне кошмара. Это говорит о том, что кошмар как всякий повтор есть род безумия. Ведь в результате повторяющегося попадания в точку оцепенелости сознания мы снова и снова разрушаем мост коммуницирования с другими, разрушаем сферу внутри психической коммуникации с самим собой. А главное — в точке Ужаса в силу невозможности натурального, естественного движения cogito эта катастрофа сознания выпадает в форме взрыва, в результате которого индивид распадается на осколки мыслимостей. На языке психиатрии это квалифицируется как расщепление личности. Вот это многообразие выражений лица произведения-текста «В исправительной колонии», эти гримасы и жуткие ухмылки, которые позволяет делать живой автор (или по нарратологической терминологии — актор) только в глубоком одиночестве, следя попутным взглядом за мимикой отчаяния на своем лице, определяет этот иной, внелитературный характер поэсиса. И дает основание заметить, что в самом процессе производства кошмаров порождается и поэсис, так же как при производстве стихотворения в самом начале возникает ритмика, а лишь затем вербально-смысловое ее наполнение. Только этот поэсис есть форма выражения пара-культурного мира, мира той культурной жизни нашего физического тела, что параллельна эмпирическому нашему бытию в мире эйдосов. Вот этот пара-культурный мир лишен значений и, составляя конфигурацию метафизики тела, может быть представлен, как это показал Кафка через те знаки эмпирического бытия, которые фактически и есть следы, лишенные плоти значений. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 19-05-2007 10:54 |
|
Кукулин И.В. Эволюция взаимодействия автора и текста в творчестве Д.И.Хармса 1. Алфавит как источник магических действий В 1931 г. Хармс пишет: "Сила заложенная в словах должна быть освобождена. Есть такие сочетания из слов, при которых становится заметней действие силы. <...> Пока из[в]ест[н]о мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры. Эти машины построены не путём вычисления или рассуждения, а иным путём, название которого АЛФАВИТЪ." Здесь намечено несколько тем. Первая - это магическая сила слов и их сочетаний. Вторая - это значимость букв и дореволюционного алфавита. "Ер" в конце слова "алфавит" не случаен. Некоторые свои тексты Хармс записывал по дореформенной орфографии. Принципиально отказывались переходить на новую орфографию, например, М.И.Цветаева и И.А.Бунин. Но Хармс был моложе Цветаевой и уж тем более Бунина; во время реформы правописания (1918 г.) ему было 13 лет. И жил он не в эмиграции. Использование дореформенной орфографии происходит в текстах Хармса, не предназначенных для печати. Это своего рода подпольный вызов. Он усиливает обособленность Хармса как автора и подчёркивает специфически рукописный, домашний, подпольный характер его текстов, - перефразируя В.В.Розанова, их "антигутенберговский" характер. Третья тема, не сразу заметная - психотехническое значение слов и их сочетаний. Она становится заметна при сопоставлении этого текста Хармса с идеями Л.С.Выготского, который совершенно независимо от Хармса уподоблял стихотворение или анекдот особой словесной машине.1 И это можно сопоставить с идеями Мамардашвили(который, несомненно, обращал пристальное внимание на тексты Выготского) о тексте как об органе-машине производства смысла. Текст, по Хармсу, есть способ магической работы с миром и с самим собой. В апреле или мае 1933 г. Хармс пишет в записной книжке N 25: "Чистота достигнута в стихах из "Гвидона": Монах: В калитку входит буква ять. Принять её? Настоятель: Да, да, принять. Монах и настоятель - загрязняют. Надо пройти путь очищения (Perseveratio, Katarsis). Надо начать буквально с азбуки, т.е. с букв." М.Б. Мейлах и В.И. Эрль комментируют этот фрагмент так: "Отметим пристальное внимание Д.Х. к проблемам алфавита, мистического значения букв и т.п. Так, поэт не только интересовался этими проблемами (в записной книжке N 23 (1931 г.) содержатся подробные выписки, касающиеся мистических значений букв древнееврейского алфавита, в другой - выписки из сочинений о Каббале), но и культивировал каллиграфическое исполнение собственных стихоторений, а также создал тайнопись, которой широко пользовался в своих записных книжках и дневниковых записях."2 Единое скрытое значение букв искал Хлебников и продолжил Терентьев, и можно сказать, что Хармс действовал в этой же традиции. Однако, по-видимому, Хармс осознанно или полуосознанно обратился к очень древним традициям, которые до этого непроизвольно (архетипически) "воскресали" в творчестве Хлебникова и Терентьева. Очищение, начатое с букв, напоминает древнеиндийскую медитацию, основанную на произнесении буквенных мантр. "В древней "Иша Упанишаде", например, содержатся рассуждения на тему о пятидесяти буквах санскритского алфавита, каждая из которых рассматривается сама по себе как мантра, и описываются её специфичные достои ства. Буква "умкара" даёт силу, "кумкара" является противоядием, "дхамкара" дарует преуспевание, "пхамкара" наделяет психическими силами" (Д.Голмен3). Хармс, скорее всего, не произносил буквенных мантр. Его усилие очищения касалось в первую очередь письма. Письмо, каллиграфия как усилие самовоспитания и очищения известно в разных культурах: в китайской, японской, арабской и др. "Теперь произведение само по себе не может являться целью для меня это аксиома. Есть такая святоотеческая истина: "Истина Божья познаётся силой жития". А житие - это совокупность всех усилий человека. И музыкальных, и литературных, и каллиграфических. И цель всех этих усилий - исправить нашу жизнь, приблизить её к истине" (В.Мартынов4). В "Разговорах", записанных Л.Липавским, Хармс на вопрос о том, что его интересует, говорит, в частности: "Буквы. Шрифты и почерка. <...> Писание на бумаге чернилами или карандашом. Бумага, чернила, карандаш. Ежедневная запись событий." Для Хармса очень важен, эстетически значителен не только письменный характер авторской литературы, но и сам процесс письма как таковой. В русской литературе начала ХХ века особая значимость письма как графического жеста была свойственна эстетике, с одной стороны, футуристов, с другой - А.М.Ремизова. Обращение футуристов к литографированной, факсимильной книге - попытка преодолеть "отчуждённость" типографской страницы, её "общесоциальность" и одновременно преодолеть "нормативный" характер слова. Текст становился визуально выразительным и уникальным. Страница в футуристической книге становилась визуальным жестом. Буква и рисунок могли быть уравнены в правах как экспрессивные элементы единого образа страницы, разворота, книги5. Что касается Ремизова, то "со временем... темы ремизовских сососредоточиваются вокруг двух центров: чужая книга, которую он перечитывает, пересказывает, переписывает по-своему, и собственная биография - биография книгочея, писца вороньим пером (воронье, а не гусиное - по бедности)" (М.Козьменко6). А знаток ремизовского творчества Н.В.Резникова сочла, что "образ, который Ремизов создавал о себе в течение всего свеого писательского пyти: образ непризнанного, отталкиваемого, гонимого жизнью и людьми человека" - не вполне адекватен общественному положению Ремизова: его знали и ценили крупнейшие французские писатели и деятели эмиграции, его переводили, он выступал по радио и т.п. - и предположила, что Ремизов сделал свою непризнанность "как бы своим стилем".7 Можно предположить, что Ремизов в своём творчестве создал фигуру "подпольного писца". В творчестве Хармса такая фигура возникла во многом независимо (хотя Ремизова Хармс знал и очень любил) и имела свои цели. Для Хармса и буква, и процесс письма значимы символически. Миф автора-писца эстетически осваивается, делается явным и в повести "Старуха" превращается в элемент сюжета.8 2. Магичность и рискованность письма 1. Писание с точки зрения зрелого Хармса имеет три важных качества. Во-первых, это занятие частное, изгойское: то, что автор пишет, не будет напечатано. Хармс изготовляет рукописные книги9, но редко прибегает к усилению изобразительной экспрессии путём соединения рукописи с рисунком; чаще играет не с рисунками,а со шрифтами10. Во-вторых, это занятие эзотерическое. Хармс применяет в дневниках особый шифр на основе знаков письменности разных стран и эпох11 и, по предположению В.Н.Сажина, пишет иронические комментарии к собственным текстам и обозначает даты написания их с помощью символики арканов Таро. Пародирует он со знанием традиционных трактовок арканов12. В-третьих, письмо, особенно литературное письмо - процесс магический ("Сила заложенная в словах..."). Несколько прояснить и конкретизировать проблему позволяет одна особенность хармсовской поэтики рукописности - меняющаяся подпись. Сама фамилия Хармс - придуманная: первоначальная фамилия писателя, как известно, Ювачёв. О семантике этой фамилии писали много, связывая её и с фамилией Шерлока Холмса (на которого Хармс иногда хотел быть похожим в юности), и с французским "ch arm" очарование, и с английским "harm" - вред.13 Но он ещё и постоянно варьирует эту фамилию: стихотворение "Здравствуй стол..." (1931) он подписывает "Ххоермс", рукописный сборник стихотворений начала 30-х гг. - "Ххармс"14, рукопись важной для него поэмы "Гвидон" - "Хормс".15 Поэму "Гвидон" Хармс посвятил своей возлюбленной - Эстер Русаковой; в дневнике, как мы видели, он специально разбирает постфактум одно место из этого текста. Дневниковая запись: "Вчера папа сказал мне, что пока я Хармс, меня будут преследовать нужды. Даниил Чармс. 23 декабря 1936". Эта запись сделана в тяжелейший для Хармса период - безденежье, никаких надежд на улучшение материального положения в будущем, обострение неврозов. На следующий день Хармс делает запись оккультного характера: "В виду позднего часа, я не приступаю сегодня к повествованию, но завтра, Алаф, выслушай меня, и ты, Ити, помоги мне. 24 дек[абря] 1936 года Чармс "Алаф" - возможно, изменённое "алеф", первая буква ивритского алфавита и "1" в численном выражении. "Ити" - по-японски также означает "один" (на это указали А.Кобринский и А.Устинов16). Популяризатор сведений о каббалистике и магии Ленен пишет: "Алеф... отвечает первому имени Бога "Эхие", что означает божественную сущность. Каббалисты называют Его - "Тот, Кого никогда не видел глаз человеческий", потому что Он возвышается над серафимами."17 Здесь изменённая подпись - под записью, где указывается на скрытое, мистическое значение буквы. И ещё один раз подпись "Чармс" встречается под совершенно отчаянной дневниковой записью, сделанной в январе 1937 года ("Я гибну. Я гибну материально и гибну как творец..."). У Хармса были и другие подписи: Даниил Заточник (в юности), Даниил Дандан, Даниил Протопласт, Гармониус. "Протопластами" (термин в настоящее время неупотребительный в научной литературе) в 1930-е годы называли некоторые запасающие и фотосинтезирующие (хлоропласты) органоиды клетки.18 Неизвестно, знал ли Хармс точное значение этого термина. В кругу участников "Разговоров" обсуждались современные им открытия в биологии эволюционная теория "номогенеза" Л.С.Берга, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова - но непонятно, насколько Хармс интересовался биологическими, а не общефилософскими сторонами этих вопросов. Возможно, слово "протопласт" имело значение "орнаментальное", или связывалось с "протоплазмой" чем-то подвижным и непостоянным, или вообще родилось из рифмы в стихотворном наброске (июль 1933): Н.Протопласт спросил однажды дам: Скажите кто мне даст? Одна сказала: Я вам дам. (Другой текст, подписанный этим псевдонимом - "Трактат о красивых женщинах, лежащих на пляже под Петропавловской крепостью, сидящих на Марсовом поле и в Летнем Саду и ходящих в столовую Ленкублита... писан Даниилом Протопластом. 1933 год. Iюль" - написан примерно в то же время, неизвестно, раньше или позже.) "Гармониус", возможно, связан с гармоничностью. Из "Разговоров", зписанных Л.Липавским: "О гармонии. Д.Х.: Это единственное, чем я горжусь: вряд ли кто чувствует так гармоничность в человеке, как я. <...> Одни чувствуют её в руках, другие в голосе, а я во всём. И это совсем не правильность черт. Можно быть одноглазым и гармоничным"19 (Заметим, что Введенский в 20-е годы часто подписывал своё имя (в том числе и под совместным с Хармсом письмом к Б.Л.Пастернаку) также необычным образом: александрвведенский.) Другой аспект проблем с подписью - склонность Хармса в конце 1920-х гг. включать собственное имя в название теоретических текстов: "Предметы и фигуры открытые Даниилом Ивановичем Хармсом", "Одиннадцать утверждений Даниила Ивановича Хармса". Следует учесть аспект архаизаторства, присущий таким названиям. Обращение по имени и отчеству в 20-е годы с распространением "делового" панибратского стиля было не вполне характерно для молодёжи. Самоназывание по имени и отчеству было стилистически выделенным и архаизаторским ("дореволюционным") жестом, частным и вместе с тем подпольно-остранённым относительно окружающей языковой и психологической действтительности. Проблематику подписи подробно исследует Ж.Деррида. Взаимодействие подписи с текстом различно в разных жанрах и типах текстов; по-видимому, в случае дневниковых записей Хармса и некоторых других его текстов эта связь весьма интенсивна. Одно из важнейших значений подписи - указание на границу текста и его связь с пишущим, а эта связь всегда проблематична (например, в лекции о Декларации независимости США Деррида разбирает вопрос: как соотносятся подписи под Декларацией с реальным авторством этого текста?20 Разумеется, в случае юридического документа эта проблема наглядна и социальна (текст пишут юристы, а подписывает его, например, глава государства) а в случае художественного текста менее заметна и более "интериоризирована". По-видимому, Хармс хорошо осознавал эту проблематичность и стремился сделать её предметом художественной игры. В случае более "идеологических" текстов он включал своё имя в название текста, настаивая на содержании текста как на личном открытии. Имя не меняется и существует в торжественно-официальной форме. Возникает скрытое смысловое колебание между частным бытованием открытия и иронически-торжественным провозглашением. Включение имени в заголовок текста можно рассматривать как художественную игру. Она продолжает традицию "официальных" названий таких текстов, как "Гисторические материалы Фёдора Кузьмича Пруткова (деда)". Проблема, однако, в том, что теоретические тексты Хармса не были пародийными. Ирония не отменяет серьёзности их содержания. Но эта серьёзность осознаётся и демонстрируется как относительная. В "Разговорах" пересказана реплика Хармса: "...Среди нас есть такие, путь которых уверен и ясен. У них есть профессия. Другие в очень рискованном положении: они как бы создают новые профессии. Конечно, у нас в чём-то, в чутье, есть преимущество перед настоящими учёными, но нет необходимого - знаний. Наше общество (участников "Разговоров" - И.К.) можно назвать обществом малограмотных учёных. Но как любой шахматный кружок даёт лучшему в нём звание категорного игрока, так и среди нас каждый может стать знатоком в какой-то своей области, где ему карты в руки".21 Приобретение знаний Хармс рассматривал как своего рода аскезу, что зафиксировано и в дневниковых записях (история про сторожа, который "стал гением"). Можно предположить, что в научной деятельности Хармса и других участников "Разговоров" интересовала возможность методологии науки, которая стала бы альтернативой европейской науке Нового времени. Липавский говорит о своей теории языка: "...Моя теория...противоречит не каким-то законам, а что хуже, самому стилю современной науки, негласным правилам, управляющим её нынешним ходом. <...> Тот путь, которым я шёл, считается в науке слишком простым, спекулятивным, заранее опозоренным. Но, говоря по правде, я не считаю стиль современной науки правильным..." О "неготовости" психологического, социального и профессионального статуса участников обэриутско-чинарского круга мы пишем в гл.3; здесь необходимо просто отметить такое самоощущение. Во многом с ним связано стремление излагать свои мыслительные достижения и одновременно пародировать их, представлять их как домашнее, полупрофессиональное дело. Домашнее, но необходимое и нуждающееся в продолжении и развитии. В 1931 г. Хармс пишет трактат "Cisfinitum (Падение ствола)", который оформлен как письмо к Л.С.Липавскому от 16 октября 1930 г. Сама форма письма-трактата является демонстративным жанровым архаизмом: так сообщались между собой учёные до развития сети научных журналов. Жанр здесь находится в согласии с адресатом и содержанием. В письме-трактате идея "частного" открытия получает жанровое оформление. Эта жанровая стилизация косвенно подтверждает игровой и в то же время серьёзный, "концептуальный" характер, который имеют заглавия хармсовских трактатов. А в случае безусловно художественных или дневниковых текстов подпись меняется, показывая, что автор вовлечён в письмо как в приключение. Меняющаяся подпись может быть соотнесена с рискованным "поиском себя". Подпись становится средством указать на свою возможную изменчивость и в то же время связь с писанием. Хармс словно бы стремится снова и снова конституировать себя с помощью письма. Письмо для него - способ преодолеть себя. Если подпись это удостоверение себя, то кого именно она удостоверяет, когда человек может измениться? Удостоверение возникает вновь и вновь, но оно меняется. Это преодоление себя - осознанное и в то же время, видимо, игровое: "...пока я буду Хармс, меня будут преследовать нужды. Даниил Чармс" - трудно отделаться от подозрения, что здесь есть элемент игры, хотя бы невольной.22 В.Н.Сажин ссылается на мнение выдающегося российского египтолога Милицы С.Матье: "Согласно представлениям [древних] египтян, часть человеческой души заключается в имени человека. Поэтому имя являлось постоянным объектом магических действий и заклинаний" и пишет: "Трансформации, которые придавал своему псевдониму Хармс, напоминают как раз некие магические манипуляции, с одной стороны, прикрывающие истинное значение имени (которое, по канонам магии, не должно быть известно непосвящённому), с другой - уберегающие носителя имени от неблагоприятного внешнего воздействия"23. Подпись для Хармса, по-видимому, действительно имеет магическое значение. Но существенно, что это магия рискованная. Это воздейсвтие и на мир, и, главным образом, на своё положение в мире с непредсказуемыми последствиями. Это понимание магии можно сравнить с сюжетом любимого Хармсом романа Г.Мейринка "Голем": главный герой испытал просветление и встретился с любимой и её отцом-мудрецом (символически это может означать то же самое) в момент, когда он меньше всего этого ждал и уже потерял всякую надежду. Граница текста для Хармса была также серьёзнейшей проблемой. Для её обозначения Хармс часто использовал слово "всё"; но при этом текст иногда вырывался за эту границу и обрастал позднейшими комментариями (например, "Одиннадцать утверждений..."). В наследии Хармса необычайно много незаконченных текстов, которые он педантично хранил. "...Если подсчитать всё, что он написал в прозе, можно заметить, что объём незаконченных, а иногда только начатых текстов огромен. <...> Очевидно, что тенденция ограничивать свои тексты их началом выходит за пределы литературного приёма" (Ж.-Ф. Жаккар24). Таким образом, письмо для Хармса - это подпольное магическое приключение, в которое вовлекается весь человек. Акт письма становится для человеком испытанием и возможностью установить контакт с подлинной реальностью. Усилие самовоспитания в каллиграфии у Хармса связано с магическим действием. Внимание к сохранению дореформенной орфографии нам кажется плодотворным сопоставить (типологически) с ещё одной традицией - древнескандинавской. "Известно, что руны являлись одновременно как фонетическими знаками, так и идеограммами, или магическими знаками. Применение рун в магических целях основывалось на том, что каждая руна обладает в соответствии со своим именем той или иной магической силой. Основная функция рунического письма никак не связана с актом коммуникации, она состоит в оказании магического действия. Руническое письмо сакрализовано: в нём заключена колдовская власть резчика рун" (И.Г.Матюшина25). Число рун в старшем руническом алфавите было священным и использовалось при составлении магических текстов-нидов. Вообще возможное магическое значение поэзии в древнескандинавской традиции было осознано и принималось в расчёт в повседневной жизни26. Сопоставление этих фактов с цитатой из Хармса о "силе заложеннойв словах" показывает, что, возможно, в текстах Хармса реализован архаический комплекс представлений, - ранее явленный, в частности (но, вероятно, не только) в древнескандинавской традиции. В таком случае использование дореформенной орфографии оказывается глубоко осмысленным действием. Дореформенный алфавит в атмосфере 1920-х - 1930-х годов есть нечто абсурдное и нефункциональное. Она выводит за пределы причинно-следственного, бытового существования. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 19-05-2007 11:01 |
|
Защищая в 1918 г. дореформенную орфографию, Вяч.Иванов напрямую связывал устоявшуюся орфографию с неразрывностью традиции и иерархичностью устройства мира: "Язык наш запечатлевается в благолепных письменах: измышляют новое, на вид упрощённое, на деле же более затруднительное... правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и законченность его начертательных форм... Но чувство формы нам претит: разнообразие форм противится началу всё изглаживающего равенства. <...> Всякое духовное послушание преобразуется в духовную власть. Закон правых отношений в великом - верен себе и в малом..."27 Разумеется, русская орфография много раз менялась - та, за которую ратует в этом пассаже Вяч.Иванов, существовала самое раннее начиная с Петра I и сама родилась в результате радикальной реформы письма. Интерес в данном случае не в исторической правдивости Иванова, а в его аргументации. В его статье есть апелляция к заведомой правоте традиции (пусть будет так, как сложилось) и указание на то, что дореформенная орфография лучше присопособлена к морфологическому и фонетическому строению русского языка. Но есть и ещё один аргумент: устоявшийся алфавит своей внешней условностью требует самодисциплины и "чувства формы". В более ранней (1905 г.) статье Иванов, размышляя об орфографической реформе, опасается, в частности, "ослабления иероглифического элемента" в письменности28. У Иванова и у Хармса актуализируется отношение к алфавиту как к парадигме: во многих древних (например, руны) или эзотерических традициях (в частности, в каббале) алфавит понимается как своего рода образ мира29 (ср. вышеприведённый отрывок из Голмена про санскритские буквенные мантры). Для Иванова дореформенное правописание было привычным и любимым. Хармс восстанавливал его, будучи уже довольно взрослым человеком. Он действовал в условиях разрыва с традицией, отчуждения от неё. Это же сказывалось и при его работе с оккультными традициями: он не был включён ни в одну из них и выстраивал собственный синкретический "образ традиции". Вероятно, сам он хорошо осознавал эту ситуацию. 2. М.Н.Айзенберг пишет: "...Поэтическая практика <обэриутов> ни в коем случае не сводима к чисто деструктивным опытам, но как раз их легче заметить и проще описать. Можно перечислить несколько клишированных определений такого рода: абсурдизм, распад смысловых связей и т.д. Признаки распада как будто налицо, но эмоциональное впечатление понятию "распад" совершенно не соответствует. Здесь явно присутствует новый строй, новая связь через смысловые зияния, - нередуцируемые сгущения ощутимого смысла (это, при всех различиях, близко и к практике позднего Мандельштама). Единственно возможная линейная связь заменяется пучком возможностей, ни одна из которых не является предпочтительной. Природа этих зияний кажется таинственной. Ее трудно описать, но легко почувствовать. <...> После разрушения прямых логических связей слова остаются как бы сами по себе. В пустоте. Стихи обэриутов - это испытание пустоты на возможность высказывания. И в мысли, и в словесной работе эти люди так отчаянно идут навстречу пустоте, что та - нет, не исчезает, - но как будто редеет. Начинает казаться, что все не кончается пустотой, что она проницаема. В деятельности обэриутов есть идеальная, утопическая основа. Это своего рода руссоизм: возвращение к природе языка, к его стихиям и первоэлементам"30 Если "возвращение к природе" XVIII века предполагает идею "возвращения" к наличной "природе" от отчуждающих социальных институционализаций и правил, то идеи обэриутов предполагают обращение к "силе, заключенной в словах", которую ощутить можно только путём усилия; освобождение "силы, заключенной в словах", есть исключительное состояние поэтического языка, которое совпадает с удачей. Источником освобождения этой силы является обращение к внечеловеческой основе языка. "Стихии и первоэлементы" существуют в этой внечеловеческой основе и в повседневном пользовании языком трудноощутимы. В этом случае наличное пользование языком - это своего рода падшее бытие, а сам язык - истинная реальность, существующая вне человека - актуально вообще не дан, но имеет очень высокий онтологический статус. Тогда прорыв к истинному языку - это подъем, а не "возвращение к природе". Это возвращение в очень высоком смысле - не к "природе" в смысле XVIII века. Для индивидуального человека - это выход за пределы человеческой ограниченности. Это в некотором смысле совершенно новый акт. Понятно, что искусство, исходящее из "стихий и первоэлементов" языка при условии очень высокого онтологического статуса языка - получает шанс оказаться "в ряду первой реальности" (из письма Хармса К.В.Пугачевой от 16 октября 1933 г.). "Первая реальность" при этом доступна ограниченному человеческому сознанию далеко не вся. Важным фоном для формирования взглядов Хармса на язык стали, во-первых, представления футуристов о самостоятельной энергии языка. Во-вторых, есть и более далёкий и менее заметный фон. Это представления об энергийности языка, выработанные в русской религиозной философии 1910-х-20-х гг. в результате богословского спора об имяславии, в котором приняли участие П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков, А.Ф.Лосев и др.30а 3. Развёртывание текста как объект эстетического изображения На протяжении 30-х годов в творчестве Хармса формируется мотив "самоуничтожения" художественного языка. Его проявлением можно считать повествование, которое разрушается и это разрушение становится сюжетом. Такое построение текста пародийно остраняет закономерности сюжетного развёртывания. В тексте "О явлениях и существованиях N 2" вокруг Николая Ивановича, который пьёт из бутылки водку, постепенно "вычитается" пространство, а затем и он сам. "Вычитается" текстовыми средствами. Сначала сообщается, что "за спиной Николая <Ивановича> нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет". Затем выясняется, что нет и самого Николая Ивановича. "Вы спросите: а как же бутылка со спиртуозом? Особенно куда вот делся спиртуоз, если его выпил несуществующий Николай Иванович? <...> Тут мы и сами теряемся в догадках. <...> Но, с другой стороны... если мы говорим, что ничего не существует ни изнутри, ни снаружи, то является вопрос: изнутри и снаружи чего? Что-то, видимо, всё же существует. А может, и не существует. Тогда для чего же мы говорим изнутри и снаружи? Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания". Текст "Голубая тетрадь N 10" (1937) начинается: "Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей..." Далее вместо каких-нибудь, хотя бы абсурдных действий, совершённых этим персонажем, сообщается, что у него не было рук, ног, живота, спины "ничего не было! Так что непонятно, о ком идёт речь. Уж лучше мы о нём не будем больше говорить". И в том, и в другом тексте строится фигура повествователя, имеющая два противоположных свойства. Во-первых, повествователь демонстрирует абсолютную власть над текстом, как будто отменяющую соглашательство с какими бы то ни было условностями. Во-вторых, повествователь оказывается чем-то вроде аппарата, запрограммированного на разрушение текста: см., например, оборот: "Теперь пришло время сказать,что и впереди Николая Ивановича, так сказать, перед грудью и вообще кругом нет ничего". В тексте "О явлениях и существованиях N 2" повествователь "оплотнён" своим живым разговорным языком ("как острили когда-то: отсутствие всякого присутствия") и прощанием "До свидания" и в то же время дематериализован самоназванием "мы", характерным скорее для научного текста. Изменение отношений повествователя и текста - сюжет по меньшей мере столь же важный, как и действия персонажа. Повествователь постепенно исчерпывает возможности развёртывания текста, и потеряв любую возможность рассказывать, прощается или предлагает сменить тему. Ср., например, окончание текста "Неудачный спектакль" из цикла "Случаи": "Папа просил передать вам всем, что театр закрывается. Нас всех тошнит!" В тексте "Один англичанин никак не мог вспомнить, как эта птица называется..." герой вместо нужного слова вспоминает всё более и более длинные слова, постепенно безнадёжно удаляющиеся от необходимого смысла: крюкица, кирюкица, курякица... Далее на листе рукописи есть другой текст: "Хотите, я расскажу вам рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкицу, а кирюкицу. <...> Забыл я как эта птица называется. А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикукукрекицу." (В.Н.Сажин считает текст про англичанина первым вариантом, а "Хотите, я расскажу вам..." - вторым вариантом того же текста31. А.Г.Герасимова публикует два текста последовательно, как единый текст.) Каждая из этих последовательностей начинается с непопадания", "витания вокруг" нужного слова, причём то, что это слово - "курица", ясно для читателя с самого начала. Сюжетом становится невозможность рассказать, причём невозможность усиливающаяся: слово становится всё менее похожим на нужное. При этом невозможность рассказать сама сделана объектом пародии, так как слово известно. Спародирован герой, испытывающий "муки слова", не могущий "высказать себя", попавший в плен к стихиям языка. Ж.-Ф.Жаккар пишет: "...Изображение мира в его бессвязности... признание безжалостной ясности, верным отражением которой является язык. Вот почему следует рассматривать творчество Хармса не как неудавшуюся попытку выразить невыразимое, что входило в замысел модернизма, но как успешную попытку выразить ограниченность и невозможность этого предприятия. Хармс, таким образом, относится к той обширной категории писателей, который, для того чтобы ответить на великие экзистенциальные вопросы, задавались целью узнать, что сказано тем, что сказано, и которые в своей поэтической практике отважились с тоской ответить: ничего"32. Хармс, видимо, знал о состоянии "что сказано тем, что сказано? - ничего", "то, что говорится, не означает ничего", "уводит от смысла", но воспринимал такое состояние как условное, преходящее, мог сделать его предметом изображения, пародирования и "эстетического завершения". Развитие эти процессы получили в повести "Старуха". 4. Ограниченная компетенция повествователя как характеристика текста и персонажа В текстах "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..." (1932), "Пассакалия N 1" (1937), "Синфония N 2" (1941) также есть фигура повествователя. У неё есть другая особенность. Повествователь имеет ограниченную компетенцию. Он объясняет все свои самовластные действия, производимые над текстом. Но при этом странным образом выясняется, что про героев он знает не всё. В тексте "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..."(датирован: 2 августа 1932/ Курск) чередуются фрагменты двух типов: 1) философские или парафилософские размышления, заключенные в кавычки; 2) их соединяют ремарки "я-персонажа" без кавычек. Окончание текста: "...То, что мы называем ничем, имеет в себе еще что-то, что по сравнению с этим ничем есть новое ничто. Два ничто? Два ничто и друг другу противоречивые? Тогда одно ничто есть что-то. Тогда что-то, что нигде не начинается и нигде не кончается, есть что-то, содержащее в себе ничто". Я перечитал написанное и долго думал. Потом я не думал несколько дней. Меня интересовали числа и я думал так: "Мы представляем себе числа как некоторые свойства отношений некоторых свойств вещей. И, таким образом, вещи создали числа". На этом я понял, что это глупо, глупо мое рассуждение. Я распахнул окно и стал глядеть на двор. Я видел, как по двору гуляют петухи и куры". В тексте "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..." повествователь разделён на два уровня: "мыслителя" и "наблюдателя". "Мыслитель" размышляет, а "наблюдатель" описывает и действия мыслителя, и то, что происходит вокруг него. Процесс развития мысли делается объектом "эстетического завершения"; развивающаяся мысль перестаёт быть потенциально объясняющей весь мир и становится лишь одним из процессов в мире. Вместе с ограниченнстью мысли выясняется и ограниченность "мыслителя" и "наблюдателя". "Мыслитель" ограничен. При этом он полагает свою объясняющую мысль как безличную, превосходящую "я" (ср.: "то, что мы называем ничем, имеет в себе..."). "Наблюдатель" - собственно, то же "я", но "продолженное" во времени33 - является личным и поэтому ограниченным. "Наблюдатель" осознаёт и свою индивидуальность, и свою (в силу этого) ограниченность. Его ограниченность - ограниченность живая и осознающая себя; это ограниченность более высокого порядка, чем ограниченность "мыслителя". "Наблюдатель" вводит мотивировки разрыва в повествовании "мыслителя". "Мыслитель" со своей безличной жизнью оказывается человеком, частным проявлением жизни "наблюдателя". Такого рода мотивировки означают: 1) ограниченность "я-персонажа", от имени которого ведется повествование, и 2) изменчивость "я-персонажа" во времени. В процессе повествования "я-персонаж" меняется, причем это является результатом именно того, что 1) повествование ведется и 2) ведется от его имени. Отношения "я-персонажа" с повествованием демонстрируются, становятся элементом сюжета. Для ограниченного сознания "я-персонажа" другие персонажи непроницаемы. "Я-персонаж" словно бы наблюдает за ними со стороны: "А мы всегда немного в стороне, всегда по ту сторону окна. Нам наше положение, по ту сторону окна, - очень нравится. Тут же по этому поводу мы напишем небольшой рассказик. Вот он..." (из неоконченного рассказа "А мы всегда немного в стороне...", 1930-е гг.) Мотивы действий других персонажей (кроме "я-персонажа") не сообщаются. Отсутствие мотивировок значимо, но, возможно, родственно принципу, который мы назвали принципом "отказа от стрельбы". То есть персонажи становятся выражением закономерностей, внеположных авторской воле. Описание мотивов персонажей при такой эстетике и такой жанровой установке не имеет смысла. В результате формируется тот стиль, который А.Г.Герасимова назвала средним между стилями протокола и анекдота. Заметим, что мотивировки в протоколе и (далеко не всегда) в анекдоте отсутствуют по разным причинам и их отсутствие имеет разное значение. Дальнейшее развитие повествовательная структура текста "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..." получает в рассказе "Власть" (1940), где фрагментам двух типов первого текста соответствуют два разных персонажа. Фаол произносит глубокомысленный монолог о любви ("С одной стороны сказано: Возлюби, а, с другой стороны сказано: не балуй"), а Мышин лежит на полу и только отпускает невнятные реплики ("- Хо-хо, - сказал он, лежа на полу, - Че-че".), напоминающие то ли детский лепет, то ли заумь. Вдруг он научается говорить осмысленные слова, вначале соглашается с Фаолом, а потом уничтожает его вместе с его "повествованием". Уничтожает словами. "- Хветь! - крикнул Мышин, вскакивая с пола. - Сгинь! И Фаол рассыпался к[ак] плохой сахар". Здесь обе функции - и функция порождения повествования, и функция остранения повествования - отчуждены и передоверены персонажам. В рассказе "Пассакалия N 1" герой ждёт таинственного Лигудима. "Тихая вода покачивалась у моих ног. Я смотрел в темную воду и видел небо. Тут, на этом месте, Лигудим скажет мне формулу построения несуществующих предметов. Я буду ждать до пяти часов, и, если Лигудим за это время не покажется среди деревьев, я уйду. Мое ожидание становится обидным. Вот уже два с половиной часа стою я тут, и тихая вода покачивается у моих ног. Я сунул в воду палку. И вдруг, под водой, кто-то схватил мою палку и дернул. Я выпустил палку из рук, и деревянная палка ушла под воду с такой быстротой, что даже свистнула. Растерянный и испуганный стоял я около воды." Наконец появляется Лигудим. "Лигудим спросил меня, почему я так бледен. Я сказал. Прошло четыре минуты, в течение которых Лигудим смотрел в темную воду. Потом он сказал: "Это не имеет формулы. Такими вещами можно пугать детей, но для нас это неинтересно. Мы не собиратели фантастических сюжетов. Нашему сердцу милы только бессмысленные поступки. Народное творчество и Гофман противны нам. Частокол стоит между нами и подобными загадочными случаями." Лигудим повертел головой во все стороны и, пятясь, вышел из поля моего зрения." В "Пассакалии" есть две таинственные реальности - 1) магии и эзотерики и 2) "Народного творчества и Гофмана". Соответственно возникает оппозиция "бессмысленные поступки - необъяснимые события". Оппозицию эту формулирует Лигудим, который, кажется, боится того, чтобы "я-персонаж" увидел его спину - возможно, он связан с нечистой силой. Бессмысленные поступки - действие, исходящее от "я". "Необъяснимые события" происходят извне человека. "Необъяснимое событие", по словам Лигудима, "не имеет формулы"; сам же Лигудим обещал "я-персонажу" сообщить "формулу построения несуществующих предметов". "Мы" Лигудима - видимо, "мы", произносимое от имени какого-то кружка посвященных. "Научно-магический" (формула бывает не только научная, но и магическая - "формула построения несуществующих предметов") Лигудим, сталкиваясь с необъяснимой и таинственной реальностью, отказывается от ее объяснения, отказывается ее рассматривать - "для нас это неинтересно", - и связывает необъяснимый случай с "фантастическими сюжетами", "народным творчеством и Гофманом". В глазах Лигудима это - материал для литературы. Из воспоминаний современников, однако, известна склонность друзей Хармса - Шварца, Олейникова - и в особенности самого Хармса к "бессмысленным поступкам", загадочным, немотивированным и демонстративным.34 Можно предположить, что в "Пассакалии" Хармс подвергает сомнению этическую правильность такого поведения. Эзотерически ценные бессмысленные поступки и формула построения несуществующих предметов никак не отменяют таинственного мира вокруг. Таинственные события - материал для романтиков: ссылка здесь открытая. Таинственность мира, проблема, поставленная романтиками, с помощью эзотерического действия решена быть не может. Более того, Лигудим поспешно покидает героя, с которым произошло "необъяснимое событие". Начало текста "Синфония N 2": "Антон Михайлович плюнул, сказал "эх", опять плюнул, опять сказал "эх", опять плюнул, опять сказал "эх" и ушел (троекратное повторение, характерное для фольклорных текстов - И.К.). И Бог с ним. Расскажу лучше про Илью Павловича". Такой стиль, по-видимому, отчасти продолжает традицию Гоголя. В.В.Набоков в цикле лекций "Николай Гоголь" замечает, что у Гоголя большое количество развернутых метафор и героев "на окраине повествования", описанных относительно подробно, но не относящихся к сюжету. Это словно бы "болтающиеся шнурки" повествования. Анализируя начало первого тома "Мертвых душ", Набоков цитирует описание молодого человека, который посмотрел на чичиковскую бричку и пошел своей дорогой, - и замечает, что в обычном русском романе того времени следующий абзац начинался бы с фразы: "Иван - так звали этого молодого человека..."35 |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 20-05-2007 09:20 |
| Доктор, Вы бы дозировку уменьшили. Очень много разнопланового материала, голова кружится. | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 20-05-2007 20:43 |
Странно Но вошла только половина Остальное никак не мог поместить |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 20-05-2007 22:10 |
|
Так я и говорю)))) Давайте вторую половину. Конечно, магическая сила. Не зря же все начиналось со СЛОВА. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 20-05-2007 22:16 |
| А с Кафкой все очень удручающе. Читаешь, как историю болезни, и хочется сказать - может, перерастет ? | |
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 21-05-2007 19:36 |
|
Сравните мотивировку перехода в "Синфонии N 2" к рассказу "про Илью Павловича" - Антон Михайлович "ушел" - с окончанием текста "Пассакалия N 1": "И, пятясь, вышел из поля моего зрения". Далее в "Синфонии N 2" рассказ про Илью Павловича обрывается потому, что Илья Павлович "в начале революции эмигрировал за границу", а рассказ про Анну Игнатьевну - тем, что "во-первых, я о ней ничего не знаю, а во-вторых, я сейчас упал со стула и забыл, о чем собирался рассказывать". Таким образом, "я-персонаж", говорящий от лица автора текста, демонстрирует волюнтаристское отношение к тексту, но само это волюнтаристское отношение мотивировано тем, что у "я-персонажа", у мнимого автора - отсутствует авторское всезнание. Он может вообще "ничего не знать" о персонаже (который тоже элемент текста; с точки зрения читателя - "выдуман" "настоящим автором") или потерять персонажа из виду ("в начале революции эмигрировал за границу"). Рассказ "Синфония N 2" является безусловно написанным текстом, но он же "объявлен" как устная речь "я-персонажа". Повествование имитирует устную речь с ее внезапными самоперебиваниями, обрывами и перескоками; однако здесь эти перескоки мотивированы в тексте. В других текстах Хармса - "Голубая тетрадь N 10" ("Случаи", N 1), "О Пушкине" (1936) также возникают подобные мотивировки: "...По сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нём и написать-то ничего нельзя, поэтому я всё-таки буду писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу." В целом эти мотивировки можно свести к одной причине: к невозможности почему-либо далее говорить на выбранную тему - в первую очередь в результате некомпетентности персонажа-повествователя. Некомпетентность становится структурной чертой персонажа и оказывает существенное влияние на стиль и сюжет. Некомпетентность, если можно так сказать, динамическая: она не задана, а выясняется по ходу импровизированного (как будто) повествования. Это - проявление той же черты, что и "запрограммированность" повествователя. Повествователь оказывается неволен над законами, по которым развёртывается текст. 5. Проза Хармса и архаическая повествовательная традиция Мотивировки Хармса напоминают мотивировки, характерные для архаической повествовательной традиции. В исландских сагах есть такие обороты, как "тот уехал в начале лета, и о нём больше не будет речи в этой саге" или "теперь надо рассказать о Гуннлауге, что тем самым летом... он поехал из Швеции в Англию" ("Сага о Гуннлауге Змеином Языке", пер. М.И.Стеблин-Каменского). Аналогичные признаки, по-видимому, есть и у старинной китайской прозы. "С устным сказом [роман] "Цзин, Пин, Мэй" роднят не только композиционные приёмы построения глав или вводные стихи, но и целый ряд специфических сказительских формул, используемых непосредственно для организации повествования. Завершение истории о каком-нибудь персонаже обязательно будет заключено словами вроде: "Но об этом речи больше не будет". Из устной стихи пришли в роман и выражения типа: "Не будем рассказывать о том-то и том-то, а поведём речь о том-то и том-то"..." (Б.Рифтин36). В поэзии Хармса стихийно воспроизводятся отдельные признаки архаических поэтических текстов, в прозе - прозаических. Но и в поэзии, и в прозе - не возвращение назад и не стилизация, а возникновение архаических структур при решении новых художественных задач. Архаическая проза только-только оторвалась от устного рассказывания.37 "...Позиция всеведения и вездесущности совершенно чужда автору саги. <...> Он не более как свидетель, тот, кто видел и слышал то, о чём рассказывается в саге, либо услышал об этом от других свидетелей" (А.Я.Гуревич38). Её "образ автора" сохраняет черты (более или менее) типичного образа рассказчика, который подчинён некоторым ритуальным правилам построения текста и отношений с читателем. Пародийный "образ повествователя", подчинённого неизвестным правилам, по которым сюжет надо последовательно уничтожить, в прозе Хармса возникает вторично. Пасичник Рудой Панько из гоголевских "Вечеров на хуторе близ Диканьки" гораздо более свободен в своём общении с аудиторией и обращении к читателям, хотя "Вечера" написаны почти за 100 лет до хармсовской прозы. Хармс, действуя в "подпольных" (большей частью принудительно, но отчасти и добровольно) условиях, в наибольшей степени из всего обэриутско-чинарского круга обнаружил жанровую "пограничность" своих текстов. Если каждый текст - это частное дело, то рассказ или стихотворение приближаются по значению к письму или дневниковой записи. Хармс вообще осознавал своё положение как психологически "неготовое" (см. главу 3, раздел 1). В саге ритуальность повествования - нормальное условие построения текста. У Хармса вторично сформировалась фигура повествователя, во-первых, условного, во-вторых, "пограничного" и частного. Особенность его - в том, что условный повествователь оказался чрезвычайно сильно, экзистенициально связан с личностью Хармса. 6. "Случаи": сюжет цикла Анализируя цикл "Случаи", исследователи неоднократно отмечали, что он является своего рода компендиумом многих важных для Хармса тем и сюжетов, таких, как сон ("Случай с Петраковым", "Сон", "Потери", "Сон дразнит человека"), полет в небеса ("Молодой человек, удививший сторожа") и других. Один из главных (если не главный) скрытых сюжетов "Случаев", по-видимому, может быть выявлен при сопоставлении первого и последнего рассказов цикла: соотвественно "Голубая тетрадь N 10" и "Пакин и Ракукин". При сравнении этих текстов заставляет обратить на себя внимание одно важное обстоятельство: они представляют две принципиально разные концепции описания человека. Можно предположить, что эти концепции соответствуют начальной и конечной точкам движения сюжета "Случаев". Скрытый сюжет, правда, представляется нам не линейной последовательностью изменений от одной концепции к другой, а нелинейным пространственноподобным образованием. Отдельные тексты не являются "иллюстрациями" к той или иной стадии развития сюжета, а сохраняют самостоятельное значение. Это особенно важно учитывать потому, что тексты в цикле расположены не в хронологической последовательности. Тем не менее порядок, в котором расположены тексты в цикле, представляется нам законосообразным. Сюжет, выявляемый при сопоставлении первого и последнего текстов цикла, можно описать вкратце как различение души в человеке. Это сопоставимо с "нахождением предела" в концепции А.Г.Герасимовой. Текст "Голубая тетрадь N 10" пародирует и остраняет произвольность литературного высказывания (и тем самым опосредованно может быть сопоставлен с популярной в 1920-е - 30-е годы проблематикой "сказа"). Описываемый человек предстает как явно условный конструкт, который "развинчивается" в процессе описания. Происходит словно бы наглядная рефлексия литературных принципов построения текста. Текст "Пакин и Ракукин" основан на принципиально иной концепции описания человека и письма вообще. Он описывает внеположную акту говорения реальность - настолько, насколько это может делать художественный текст и так, как он это может делать. Внешне он напоминает русский короткий рассказ начала ХХ века - может быть, возможны ассоциации с чеховской традицией ("...и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то, прямо сквозь дома и стены"). Однако сюжет этого рассказа принципиально иной, "неклассический". Традиционность рассказа не случайна, не вполне пародийна и не заканчивается чертами только внешнего сходства, хотя эта традиционность и включена в другую систему, в другой литературный ряд (пользуясь выражением Тынянова) Можно сказать, что она выстрадана и создана заново. Мотивы персонажей не называются и, если оставаться только в пределах этого рассказа, остаются в принципе неизвестными. Но окончание рассказа отменяет задачу отгадывания мотивов как не самую важную. У убитого Ракукина оказывается душа. "Но тут из-за шкапа вышла высокая фигура ангела смерти..." Заметим, что шкап постоянно связан у Хармса с топикой чудесного: достаточно вспомнить ранний лозунг "искусство это шкап" или текст "Мальтониус Олэн" (1937) "За поворотом" означает окончательный уход за пределы представимого. Как могла душа Ракукина исчезнуть "за поворотом", если виден был ее путь вслед за ангелом "прямо сквозь дома и стены"? По-видимому, можно предположить, она выходит именно за пределы описания и одновременно за пределы представимого (и постижимого). Словосочетание "за поворотом" - правда,реки - в стихотворениях Хармса, по-видимому, связано с переходом в засмертье. Он - Скорей сколотим быстрый плот и поплывем по вьющейся реке. 40 Мы вмиг пристанем к ангельским воротам. Она - Где? Он - Там за поворотом. ("- А ну-ка покажи мне руку...", <1931>) (Ср. также "Вода и Хню", <1931>). Таким образом, в рассказе "Пакин и Ракукин" мы имеем дело с системой двух оппозиций. Первая оппозиция возникает при сопоставлении последнего абзаца (со слов "Минут четырнадцать спустя...") с предыдущим текстом. Это как минимум противопоставление "видимая реальность - невидимая реальность". Невидимая реальность игнорирует законы видимой ("прямо сквозь дома и стены"). Вторая оппозиция возникает при сопоставлении фразы "исчезла вдали за поворотом" со всем предыдущим текстом. Упрощенно эта оппозиция может быть описана как "представимое - непредставимое", "постижимое - непостижимое". Точная фиксация времени ("минут четырнадцать спустя...") здесь (также, как и в рассказе "Пассакалия N 1" и в повести "Старуха" - см.далее), связана с описанием таинственной, непредсказуемой реальности, которая непостижима не только для условного повествователя (наподобие тех, которые формируются в текстах "Голубая тетрадь N 10" и "О явлениях и существованиях N 2"), но и для менее условного (и менее "выявленного" в тексте) повествователя, близкого к "нелитературному" "я". В сниженном, гиньольно-профанированном виде элементы сюжетной структуры этого рассказа воспроизведены в рассказе "Помеха" (1940), который не входит в цикл "Случаи". Героев рассказа - Ирину Мазер и сразу после - влюблённого в неё Пронина - арестовывают и увозят неизвестно куда. Рассказ - одно из немногочисленных художественных произведений, описывающих сталинские репрессии и написанных одновременно с ними (другой пример - "Софья Петровна" Л.К.Чуковской); но с точки зрения поэтики он продолжает метод и традиционные темы Хармса - постольку, поскольку сотрудник ОГПУ, двое военных "низших чинов" и дворник - явления таинственного и опасного мира. Развитие сюжета от первого рассказа "Случаев" к последнему это развитие от представления человека как условного, чисто языкового конструкта к описанию человека одушевленного (хотя у него и " маленькая душа"); посмертный путь его души непостижим и неописуем. Прямое называние души и ангела происходит в последнем рассказе впервые на протяжении всего цикла. Но указание на невидимую реальность есть и в других текстах цикла - например, в рассказе "Молодой человек, удививший сторожа" (без даты, N 14; продолжает некоторые мотивы поэмы "Лапа"). Описание невидимой реальности есть, например, в драматической сцене "Макаров и Петерсен N 3" (<1934>, N 17). Сюжет сцены и сюжет "Пакина и Ракукина" связаны с одним и тем же сюжетным мотивом "посвященный и профан" (с меньшей уверенностью мы можем говорить о возможном влиянии этого мотива на сюжет рассказа "Молодой человек..."). Однако в "Пакине и Ракукине" этот мотив претерпевает существенные изменения. Пакин гротескно и почти пародийно соотносится с образами "посвященных" из более ранних текстов, например, с Окновым ("Окнов и Козлов"). Непонятно даже, во что он "посвящен" ("...Я тебе покажу кое-что"). Отношению автора к продуцированию литературного текста - внутри самого текста соответствует отношение между автором-персонажем и текстом, который он "продуцирует". В первом и последнем текстах "Случаев" мы имеем дело с разным отношением автора и текста на обоих уровнях. В "Голубой тетради N 10" автор-персонаж находится в противоборстве с ходом повествования: он формирует своего рода инерцию высказывания (или подчиняется не зависящим от него законам высказывания, которая разрушает возможность традиционного сюжетосложения. Тем самым это разрушение само образует сюжет; автор-персонаж исчерпывает сюжет этим разрушением, после чего "выходит из ситуации" повествования. Реальный автор, повествователь и "рыжий человек" образуют иерархическую пирамиду: "рыжий человек" демонстративно условен и конвенционален, повествователь условен, но обладает некоторой возможностью действий (например, условной возможностью продуцировать текст). В "Пакине и Ракукине" мы сталкиваемся с "неоклассическим", "квазичеховским" повествователем, который более "прозрачен", чем оплотнённый повествователь "Голубой тетради N 10". Персонажи действуют, а повествователь наблюдает. Лишь в последней фразе выявляется его (традиционная в творчестве Хармса) ограниченность: он фиксирует невозможность описать дальнейший путь души Ракукина ("исчезла вдали за поворотом"). Таким образом, в цикле происходит своего рода восхождение от понятия "непостижимого" как отчуждённых законов литературного высказывания - к понятию "непостижимого" как таинственной и опасной реальности. Второе понятие не вполне, но всё же во многом перекликается с понятием "непостижимого" в философии С.Л.Франка. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 21-05-2007 19:37 |
|
7. Скрытая противоречивость художественного языка В рассказе Хармса "Все люди любят деньги..." (1940) есть скрытый сюжет: полное и адекватное самовыражение приводит к эгоцентрическому замыканию и потере возможности высказывания в принципе. Рассказ строится как развёрнутая антитеза: все люди любят деньги, делают с ними то-то и то-то, поклоняются им "как иконе", а я им не поклоняюсь, не отдаю деньгам особого внимания и просто ношу их в кошельке и в бумажнике и по мере необходимости трачу их. Шибейя!" Однако антитетичность опровергается на уровне и отдельных фраз, и целого сюжета. Например, люди "в жару несут деньги в холодный погреб, а зимой, в лютые морозы, бросают деньги в печку, в огонь". Фраза зашумлена обилием дополнительных смыслов. Она опровергает сама себя как антитезу, то есть как смыслообразующую структуру. Повествование словно бы и принимает образующие его риторические средства, и борется с ними. Рассказ воспринимается как повествование о рождении нормальности в толпе. Однако язык родившейся нормальности "Шибейя!" - доступен читателю эмоционально, но не буквально. Сама внезапная экстатичность героя выглядит пародийной. В "Декларации заумного языка", подписанной в 1922 г. А.Кручёных, Г.Петниковым и В.Хлебниковым, утверждалась утопическая концепция зауми как интернационального языка. "...Общий язык связывает, свободный позволяет выражаться полнее... Заумь пробуждает и даёт свободу творческой фантазии, не оскорбляя её ничем конкретным... Заумные теории могут дать всемирный поэтический язык, рождённый органически, а не искусственно, как эсперанто"39. Интернациональный язык рождается из личных заумных самовыражений. В рассказе Хармса, по сути, подвергнута сомнению такая концепция зауми. Герой рассказа, "я", выглядит остранённым и пародийным. Задолго до этого текста, в 1926 г., Хармс пишет стихотворение "Скупость" (орфография источника): Люди спят урлы-мурлы над людьми парят орлы. Люди спят и ночь пуста. Сторож ходит вкруг куста. <...> Люди спали - я не спал, деньги я пересыпал. Я считал своё богатство. Это было святотатство. Я всю ночку сторожил! Я так деньгами дорожил. Стихотворение вызывает явные ассоциации с монологом Барона из "маленькой трагедии" Пушкина "Скупой рыцарь" ("Как молодой повеса ждёт свиданья..."). В 16-й строке и дальше есть местоимение "мы", но "я" появляется уже в конце текста. Композиция стихотворения 1926 г. и рассказа 1940 г. формально похожа, но содержательно резко различается. В композиции "Скупости" можно выделить схему, выглядящую так: 1. Все (большая часть текста) - спят 2. Я (меньшая часть текста) - сторожу и считаю деньги Для рассказа аналогичная схема выглядит так: 1. Все (большая часть текста) - любят деньги и поклоняются им 2. Я (меньшая часть текста) - не привязан к деньгам, свободен и самовыражаюсь В стихотворении "Скупость" сконцентрировано несколько главнейших, ключевых слов-тем творчества Хармса: сон, ночь, орлы, сторож. "Сон" сопоставим с представлениями об обычном существовании человека как о сне (см. о поэме "Лапа"). Персонаж-"я" бодрствует - как и Земляк в "Лапе". Персонаж стихотворения может бють назван героическим. В рассказе его "героизм" становится объектом пародии. Эволюция от текста "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..." к тексту "Власть" может быть описана как усиление "персонажности" текста. Структуры "я" "оплотняются" в персонажей. Эволюция от стихотворения "Скупость" к тексту "Все люди любят деньги..." может быть описана как "вторичное остранение образа "я". Образ "я" в виде романтического скупца уже является остранённым (особенно если учесть его "цитатность"). Но в рассказе образ "я" становится ещё и объектом пародирования. В обоих случаях любой язык самообъяснения с самого начала ("Скупость", "Бесконечное...") осознаётся как условный, абсурдный и недостаточный. Развитие происходит за счёт пародирования собственной авторской позиции, авторского индивидуализма. Авторское сознание в тексте "Все люди любят деньги..." осознаётся как персонаж. В тексте "Власть" мы имеем дело с аналогичным, хотя и менее явным процессом: авторское сознание распадается на двух условных персонажей. На протяжении 20-х-30-х гг. в творчестве Хармса постепенно формируется тема трагической антиномичности языка искусства. Каждый автор, создающий художественный текст, продолжает существующие традиции. Они отчасти сковывают его и могут быть по сути чужды - это мёртвые слова, за которыми теперь ничего не стоит. Но, отказавшись от полумёртвой или вовсе мёртвой традиции, автор теряет возможность высказаться, разрушает язык, в котором он существует. Невозможно абсолютно индивидуальное и абсолютно спонтанное самовыражение в искусстве. Искусство всегда есть путь отчуждения, но вне его нет и высказывания, нет и личного пути творчества, то есть создания нового, которое связано с автором и изменяет его. От стихотворений "Тюльпанов среди хореев" и "Радость" к повести "Старуха" происходит формирование новой эстетической проблематики - трагической ограниченности высказывания. Проблема была осознана постепенно. В конце 20-х - начале 30-х годов в стихотворениях "Тюльпанов среди хореев" (1929), "Радость" (1930), поэме "Лапа", стихотворении "Подруга" формируется несколько взаимосвязанных женских образов: Мудрая Старуха-муза ("Тюльпанов среди хореев", "Радость"), статуя-чрево-муза ("Лапа") и старуха-антимуза (рассказ "Художник и часы", повесть "Старуха"). Старуха связана с предшествующими языками искусства: с Пушкиным в стихотворении "Тюльпанов среди хореев", с "петербургским мифом" в "Старухе"; смерть старухи связана с невозможностью закончить текст ("Художник и часы", "Старуха"). В отношениях Хармса с образом царскосельской "тёти"-Няни-Музы (в первую очередь с образом, а не с реальной Н.И.Колюбакиной!) и старухи-музы развивается тема "внезапной невозможности писать". 17 июля 1931 г. Хармс пишет письмо Т.А.Мейер из Детского Села и подписывает рядом с датой дореволюционное название "Царское Село" (отчуждённый архаизм и пушкинская тематика). Письмо игровое, с разными придуманными историями про общих знакомых. Ближе к конце письма чернила сменяются карандашом и приписано примечание: "В этот момент тётушка отняла у меня чернила". Это событие (неважно, реальное или нет) на протяжении 30-х годов наполняется зловещим содержанием, которое, видимо, имеет уже совсем мало отношения к Колюбакиной: в рассказе "Художник и часы" есть "старушка, которая сгорела в печке", а потом у повествователя, который об этом написал, "чернильница куда-то исчезла"; в повести "Старуха" главный герой не может написать задуманный рассказ, а у него в комнате внезапно умирает старуха, которая, однако, способна двигаться после смерти. В 1940 г. Хармс пишет рассказ "Рыцари", вновь про старух, где врач убивает старуху Звякину, после чего "на этом автор заканчивает повествование, так как не может отыскать своей чернильницы". На протяжении 20-х - 30-х годов в творчестве Хармса можно выделить фомирование двух мотивов: 1) Трагическая антиномичность художественного языка, отчуждённость любого самовыражения; пользоваться приходится только чужими и готовыми языками, которые могут лишить человека возможности высказаться. Но спонтанное высказывание также оказывается отчуждённым и изолирует человека от смысла. 2) Персонажность, условность любого повествователя, его неполнота. Повествование определяется внеположными повествователю законами. Повествователь может исчерпать возможности высказывания и больше говорить не может. Существенно, что в обоих процессах конец повествования напоминает дзэн-буддистский коан: повествователь и даже текст исчезли, но поскольку повествователь и текст нарочито условны, создаётся впечатление "подводного" смыслового течения, которое выходит за пределы наблюдаемого, написанного текста. Из "Старухи": "Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. <...> Это будет рассказ о чудотворце, который живёт в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может совершить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живёт за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и, в конце концов, умирает, не сделав за свою жизнь ни единого чуда". После этого замысла герой "Старухи" начинает терять контроль над обстоятельствами своей жизни: сначала он ничего не может написать, потом в комнату приходит старуха, умирает, а чемодан с трупом старухи у героя крадут. Можно предположить, что замысел рассказа о бездеятельном чудотворце, невозможность написать этот текст и потеря контроля над событиями - звенья одной цепи. Жалобы на депрессию, на отсутствие вдохновения, на невозможность писать встречаются в дневниках Хармса систематически, особенно в страшном для всех 1937 г. "Хотел сегодня работать. Но целый день ничего не делал" (7 декабря 1932 г.). "Я хожу очень вялый и ничем не интересуюсь.<...> Я сегодня не выполнил своих 3-4 страниц" (23 декабря 1936 г.). "Теперь мне кажется я знаю как писать, но у меня нет к этому энергии и страсти"(21 января 1937 г.). "Довольно праздности и безделья! Каждый день раскрывай эту тетрадку и вписывай сюда не менее полстраницы. Если нечего записывать, то запиши хотя бы по совету Гоголя, что сегодня ничего не пишется" (11 апреля 1937 г.). "Я совершенно отупел. Это страшно. Полная импотенция во всех смыслах"(18 июня 1937 г.). Герой "Старухи" способен написать только первую фразу рассказа. Это черта вполне автобиографическая. Возможно, большое количество неоконченных текстов свидетельствует о том, что Хармс интуитивно, "на ощупь" обнаружил проблему, в русском искусстве в полной мере открытую и зафиксированную в конце 50-х - начале 60-х гг. и далее в творческой практике "лианозовской школы", Вен.В.Ерофеева, "московского концептуализма". Это - проблема того, что каждый художественный текст, помимо того, что он представляет читателю некоторый содержательный мир, есть также знак стиля, знак определённого литературного дискурса, который диктует определённые правила "развёртывания текста". Определённый дискурс "тянет" автора к превращению в персонаж. Стремление избежать правил, которые навязывает текст как знак дискурса, ярко выражено, например, в произведениях В.Н.Некрасова, Л.С.Рубинштейна и В.Г.Сорокина. У Рубинштейна текст выполнен в виде последовательности карточек и представляет собой совокупность указаний на возможность возникновения различных текстов. Эти знаки-указания живут в организованном живом пространстве. Знаки-указания не завершены и это эстетически важно: "автор-режиссёр", устремлённый к смыслу целого текста, не желает рационалистически "доделывать" текст и сохраняет только фиксацию первоначального импульса.40 Рубинштейн имитирует в тексте "Меланхолический альбом" фрагменты "недосочинённых" или "недовспомянутых" стихотворений, когда есть только, например, одна-две строки и ещё одно рифмующее слово. "Недосочинённое" стихотворение не доведено до традиционно-"отделанного" вида за счёт добавления слов, "придуманных позже". Поэтому в целом тексте как системе возможностей не уничтожается живой человеческий голос; он продолжает мерцать в каждом знаке, в каждом "наброске". Отказ от "завершения" не позволяет риторическим правилам дискурса возобладать над человеком. Хармс, видимо, ощущал сковывающее качество текста. У него есть текст конца 30-х гг. "Осень прошлого года...", где "знаковость" текста, кажется, вполне осознана и дана попытка дать чистый "знак стиля" вне пародийного задания. Этот текст обрывается на фиксации места и времени будущего действия - там, где действие должно начаться: "Я шёл полем. Утро было прохладное, осеннее. Начинался дождь, так что мне пришлось надеть резиновый плащ". Рассказ отчётливо предвосхищает начальные, "стилистически чистые" фрагменты рассказов В.Г.Сорокина. Хармс, по-видимому, осознавал неоконченность текстов как особое художественное качество, но деятельность по созданию незаконченных текстов была для него в некотором смысле невольной: он, видимо, не вполне понимал, почему ему "пишется" именно так. Может быть, такая чуткость была следствием невротической организации личности Хармса. Невольность и длительность этого эксперимента, а также его полнейшая непредсказуемость, вероятно, пугали Хармса, но он последовательно стремился к литературному осмыслению ситуации. В "Старухе" специфика существования писателя в такой неоконченной и неопределённой ситуации становится элементом сюжета. Герой не властен ни над текстом, который он собирается написать, ни над иными обстоятельствами своей жизни. Герой оказывается персонажем не только собственно повести, но и персонажем мифа, структуры которого актуализированы в повести. Своей "персонажности" в рамках мифа герой не называет, но осознаёт, что его положение определяется не им. В каждой культуре существуют мифологемы письма разных уровней: мифологемы "письма вообще" как события памяти и фиксации знака, мифологемы литературного письма, мифологемы письма данного автора (последние два уровня - в культурах, где есть письменная авторская литература). Вступая в процесс литературного письма, человек оказывается персонажем этих мифологем: он "пишущий", он "писатель" и он "такой-то писатель" (последние два случая - если он предполагает, что его текст относится и к литературе). Известно, что предыдущие произведения писателя создают определённый его образ с "мифологически" отобранными чертами - и не только в сознании читателей, но и в сознании самого автора как "инициатора" творчества. Взаимодействуя с образами разных уровней, автор всякий раз их частично меняет - но только частично. В момент письма он оказывается персонажем - и лишь отчасти своим. Хармс действовал в условиях, когда мифологемы письма в русской культуре были уже актуализированы. Прежде всего следует отметить актуализацию письма в творчестве футуристов, особенно Хлебникова. Второй источник - вероятно, хармсовское увлечение историей Древнего Египта (исследуемое В.Н.Сажиным), где мифология письма как сакрального действия присутствовала открыто, была важной частью культуры. Третий источник - увлечение всевозможными эзотерическими учениями. Усилие письма, направленное к достижению литературной цели, было, по-видимому, для Хармса знаком интимного и магического существования в тексте и осуществления через текст. "Старуха" может быть описана как текст, где происходит изживание мифологем письма различных уровней; преодоление, при котором обруживается относительность мифологемы письма, но не её бесплодность. И мифологема письма, и её бесплодность оказываются элементами опыта, нажитого автором в написании текста. Самый поверхностный слой этого изживания: герой сидит за столом и сообщает, что не может ничего написать. Это сообщение, построенное в грамматическом настоящем времени и от первого лица, является частью письменного художественного текста. В конце повести герой обращается к Богу, поняв наконец, в Чьём присутствии он существовал всё время действия. Этим собственно сюжет завершается, после чего следует фраза: "На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась". Слово "временно" остраняет фразу и в некотором смысле всю повесть: текст словно бы оказывается в состоянии "недорождённости", неустойчивого равновесия во времени. Такой его статус может быть связан с излюбленной метафорой-идеей Хармса - "равновесием с небольшой погрешностью". Текст остраняется, но не отменяется. Его возможно рассматривать как единую реплику, как один из актов "регулярного письма" ("Регулярное письмо" (1994) - название одного из текстов Л.С.Рубинштейна и его книги (1997)). Один из конфликтов, "нажитых", формирующихся в произведении: письмо - недостижимое магическое событие, письмо рискованно, оно вовлекает человека в магические отношения с миром и в то же время оно - регулярное, продолжающееся действие. Молитва героя в конце является в некотором смысле уничтожением авторства: герой приходит от попытки авторства к молчанию, к отказу от собственного высказывания: "лучшее молчание - моление", как сказано в современной религиозной песне. Но автор не уходит с позиции авторства, хотя эта позиция и относительна. Обнаруживается,что кроме героя-повествователя, в повести есть ещё один "субъект текста"- образ автора, в котором реальный биографический автор высказывается почти открыто, с минимальными "опосредованиями". Такое высказывание совмещает элемент литературной иронии и абстрактности с "нелитературным" высказыванием частного человека. Последняя фраза иронична. Незавершённый текст героя иронически "откликается" во "временном" окончании рукописи. Ирония в данном случае - одно из оснований примирения. Текст в последней фразе "Старухи" обозначается как частный случай, как домен во внетекстовой реальности. Это в некотором смысле двойной открытый финал: монолог героя открывается в молитву, а текст повести - во внетекстовую реальность. Ограниченность, но не невозможность литературного выражения - вот что было, по-видимому, эстетически осознано в практике Хармса. Хармс с его интересом к недискретному, "текучему" и непредсказуемому переживанию остро почувствовал закономерность, риторичность развёртывания литературного текста. Восприняв эту ситуацию в традиции романтических представлений о невозможности "высказать себя", Хармс тем не менее стал разрабатывать её эстетически. Оказалось, что возможно перенести внимание на отношение между авторским сознанием и внеположными ему законами повествования. Ситуацию, когда авторское сознание взаимодействует с ними и меняет их, оказалось возможным изобразить по-новому через автобиографическую "привязанность" героя. "Автопроекция" в текст превращала написание текста в решение экзистенциальных проблем автора как "инициатора" творчества. Писание превращалось в экзистенциальное приключение |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 21-05-2007 19:38 |
|
8. Художественный язык, сюжетосложение и восприятие времени В начале 20-х гг., до Хармса и Введенского, о возможности "внепредметного" и алогичного искусства писал И.Терентьев. Но обосновывал он такую необходимость совершенно иначе. Объективное, надличное искусство, согласно Терентьеву, алогично, заумно и выражает новое классовое сознание. Из письма Терентьева А.Е.Кручёных от 23 декабря 1923 г.: "Мы имеем прогрессивный ряд - мир осязания, мир слуха и мир зрения. Все эти три мира - материальны и беспредметны, т.е. революционны.<...> Заумно или беспредметно - оно оттого, что его рассматривают со стороны производственной, а не потребительской, количественно, а не эстетически. <...> РКП - осязаемая материя. МЫК (заумн[ый] язык) - звуковая (слуховая) материя. ...Возможность пользоваться мыком даётся только чистотой класс[ового] сознания!...Заумный подход к каждому звуку + акустический самоконтроль перед массой!"41 (Заметим, что на рубеже 1910-х - 20-х годов в РСФСР получили некоторую известность гротескно-вульгаризирующие и одновременно мессианские идеи Э.С.Енчмена ("теория новой биологии")42, согласно которым логическое мышление связано с буржуазно-капиталистическим этапом развития общества. Пролетарский этап развития отменяет необходимость в логическом мышлении, науке и многом другом и возвращает людей к "доэксплуататорскому состоянию" - "единой системе органических движений", "бывшей в организмах все тысячелетия эксплуатации в раздавленном состоянии и сейчас оживающей". Для борьбы с этими идеями Н.И.Бухарин даже написал специальную статью "Енчмениада", где, в свою очередь, провёл их классовый анализ и утверждал, что они проистекают из психологии нового, "беспочвенного" предпринимателя-нэпмана.43) Необходимость заумного творчества Терентьев объясняет надличными (классовыми и биологическими) закономерностями. "Мы имеем прогрессивный ряд - мир осязания, мир слуха и мир зрения... Щенок развивается последовательно от осязания, через слух к зрению. Так и человечество!" (из того же письма к Кручёных44.) "12 + 1 = 2 = 11о = неорганическ[ий] мир 22 + 1 = 5 = 21о = царство животных 32 + 1 = 10 = 31о = >> индивидуализма 42 + 1 = 17 = 41о = >> оптовое." (Из письма к Зданевичу от 5 февраля 1924 г. 45 ) Терентьев, видимо, использовал для "классовых" объяснений схему эволюции психики, изложенную в книге П.Д.Успенского "Tertium Organum", которую с вниманием читали некоторые русские футуристы (в том числе, например, Кручёных). В приложении к книге Успенский даёт таблицу четырёх стадий эволюции психики: одномерная (безусловно-рефлекторная), двумерная (условно-рефлекторная), трёхмерная (использование знаковых систем, возможность перехода сознательных действий на автоматический уровень) и четырёхмерная, будущая ("Ощущение прошедшего и будущего, как настоящего. Пространственное ощущение времени", "торжество сверхличного начала").46 Из хармсовского текста "Сабля": "В[опрос]: Но что такое наше качество? О[твет]: Гибель уха - глухота, гибель носа - носота, гибель нёба - немота, гибель слёпа - слепота. Абстрактное качество единицы мы тоже знаем". И у Терентьева, и у Хармса появляется апелляция к чувственному опыту, который до-предметен, до-логичен, до-семантичен. Это идея совсем не марксистская, даже, возможно, по сути антимарксистская: вроде бы согласно классическому марксизму именно труд человека и изготовленные человеком вещи вносят в мир смысл и делают возможным возникновение и функционирование языка. Терентьев приписывал зауми надличное значение постольку, поскольку она может быть принята сознательными пролетарскими массами. Интуитивная внятность алогичного текста для разных людей - критерий, на наш взгляд, действительно хороший (отдалённо он даже напоминает критерии "точного" искусства В.Н.Некрасова47), но всё-таки непонятно, почему марксистский. Генезис идеи зауми как алогичного материального опыта, по-видимому, совершенно иной: она восходит к философским идеям 1910-х годов о дологичности, досемантичности и текучести "чистого опыта". Эстетической аналогией таких взглядов можно считать, в частности, поэтику Елены Гуро, которая стремилась в языковых деформациях выразить текучие, нерасчленённые переживания, которые искажаются и исчезают при попытке воссоздать их средствами традиционной лексики и грамматики: Это-ли. Нет-ли. Хвои шуят, шуят. Анна, Мария, Лиза-нет Это-ли-Озеро-ли. "Ну, конечно, хвои "шуят", а не делают при ветре что-нибудь другое; звук их непрерывен, а шуметьможет только прерывистый, прерывающийся колебаниями звук листьев: м в слове "шум" - есть задержка и разрыв звука" (свящ.П.А.Флоренский48). В дальнейшем развитие аналогичных эстетических идей привело к экспериментам А.Туфанова и Б.Эндера.49 Согласно Терентьеву, на смену индивидуалистической приходит новая, "оптовая" культура. "То, что МЫК производит в русском языке, т.е. из индивидуального, кустарнического (искусственнического), пессимистического орудия постепенно ростит, производит ОПТОВЫЙ (т.е. оптимистический) транспорт пролетарской культуры это самое выносит нас за пределы русской и какой бы то ни было национальности к Матери[альности] всеземного - МК! (М - молодост + К - коммун[изм])." (из того же письма к Кручёных50; орфография источника). "...Человек не умеющий понимать язык в перпендикулярномнаправлении - безграмотен! <...> 7. Мир индивидуальный, предметный - истёк! Конкуреннция с оптовой культурой для кустарей... невозможна! 8. Мы (41о) имеем собственную территорию (звуковое пространство) и собственное время (осязаемое) по перпендикуляру!" (из письма к И.М.Зданевичу51). Ср. у Хармса: "IX утверждение Новая человеческая мысль двинулась и потекла. Она стала текучей. Старая человеческая мысль говорит про новую, что она "тронулась". Вот почему для кого-то большевики сумасшедшие. Х утверждение Один человек думает логически; много людей думают ТЕКУЧЕ. XI утверждение Я хоть и один, но думаю ТЕКУЧЕ. всё 18 марта 1930 года Я пишу высокие стихи." ("Одиннадцать утверждений Даниила Ивановича Хармса") Терентьев и Хармс настаивали на том, что алогичное языковое выражение внесемантического опыта материально, предметно , что оно, пользуясь выражением Меррелл-Вольфа, "является Реальностью" и, таким образом, входит в мир на правах "первой реальности". Различие в подходах между Хармсом и Терентьевым, по-видимому, сформулировал сам Хармс: вместо "связи с массой" (выражение Терентьева) предполагается интериоризованная "текучесть", особая организация индивидуального сознания. Повесть "Старуха" начинается так: "На дворе стоит старуха и держит в руках стенные часы. Я прохожу мимо старухи, останавливаюсь и спрашиваю её: "Который час?" - Посмотрите, - говорит мне старуха. Я смотрю и вижу, что на часах нет стрелки. - Тут нет стрелок, - говорю я. Старуха смотрит на циферблат и говорит мне: - Сейчас без четверти три. - Ах, так. Большое спасибо," - говорю я и ухожу". Далее с героем происходит ряд неуправляемых происшествий, и его жизненная ситуация начинает деградировать. Разговор со старухой - первое звено в этой цепи. Претензия на власть над временем является в текстах Хармса одним из признаков дьявола или злой, дьяволоподобной силы. См., напр.: "С а т а н а. Вселенная стой!" (из Пролога неоконченной драматической поэмы "Дон Жуан", 1932); "В эти дни дьявол разгуливал по улицам в образе часовщика предлагая свои услуги" (из стихотворения (неоконченного?) "Дни дни клонились к вечеру...", 1931). Можно предположить: старуха взяла на себя власть над временем (она одна знает, сколько показывают часы без стрелок); герой, поверив ей, неявно подчинился дьявольской силе. Дальнейшее течение сюжета для него - искупление вины. Первоначально ему "приятно", что на часах у старухи нет стрелок - возможно, потому, что он рад оказаться в мире без определённого направления времени, где время "распространено" вне линейного порядка. Нож и вилка на часах подчёркивают обострённое ощущение того, что линейное измерение времени прагматично, что в нём, как в филистерском быте, есть что-то пошлое. Однако и в своём неудачном сочинительстве, и во "времени страха" герой вынужден считаться с линейно измеряемым временем. Во сне герой отождествляет себя с часами. "Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть. Мне вспоминается старуха с часами,...и мне делается приятно, что на её часах не было стрелок. А вот на днях я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки". Когда герой засыпает, он видит, "что с одной стороны у меня вместо руки торчит столовый ножик, а с другой стороны - вилка". После неудачной попытки заснуть (первая цитата) герой пытается написать текст и в процессе этого постоянно фиксирует время: "сейчас только пять часов"; "ведь уже двадцать минут шестого". В комнату входит старуха и умирает, герой приходит в ужас, но продолжает фиксировать время: "уже половина шестого", "проходит восемь минут". Линейное время становится средой, где герой пытается справиться с собой и где развиваются и страшные события и сам ужас героя. До этого точная регистрация времени встречается, например, в тексте "Пассакалия N 1" (1937) (что отметил в комментариях В.Н.Сажин52). Эзотерического посвящённого Лигудима, который знает магическую "формулу построения несуществующих предметов", повествователь ждёт до пяти часов вечера. Потом Лигудим думал четыре минуты и, наконец, "пятясь, вышел из поля моего зрения" - возможно, он решил, что с человеком, с которым происходят "необъяснимые события", маг связываться не должен. Таким образом, мир "необъяснимых событий", которые "не имеют формулы", не отменяет счёта времени. Но он чем-то смущает Лигудима. Ещё один пример точной фиксации времени - рассказ "Пакин и Ракукин": "Минут четырнадцать спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа..." Мир необъяснимых событий, "непостижимого", и точное измерение времени оказываются связаны. Однако в "Старухе" заранее планировать свои действия герой не может: провозглашает, что "я буду писать восемнадцать часов подряд!" - но не может ни работать в течение этого времени, ни закончить текст. Время в "Старухе" не получается планировать "вперёд", его можно только фиксировать постфактум. (В рассказе "Исторический эпизод" (1939; "Случаи", N 26) есть пародийная фиксация времени, когда постоянно идёт "хронометраж", но вводится несуществующая (квазиархаическая?) единица измерения: "прошло тридцать пять колов времени".) В "Исследовании ужаса" Л.Липавского речь идёт о страхе, который испытывает человек в "остановившемся времени", страхе мира, "где нет разнокачественности и, следовательно, времени"53. Основным источником страха, по Липавскому, является "безиндивидуальная жизнь". "...Страх перед мертвецом, это страх перед тем, что он, может быть, всё же жив. Что же здесь плохого, если он жив? Он жив не по-нашему, тёмной жизнью, бродящей ещё в его теле, и ещё другой жизнью, - гниением. И страшно, что эти силы поднимут его, он встанет и шагнёт, как одержимый".54 Это тоже пример страха перед "безиндивидуальной жизнью". Сходство говорит не столько о влиянии Липавского на Хармса, сколько о том, что в "чинарском" кругу культивировалось внимание к определённому типу переживаний: к иррациональности "непосредственного опыта", к текучим, внезнаковым процессам, которые могут быть восприняты при отрешении от восприятия мира в повседневных категориях причинно-следственных связей. Введенский в "Серой теради" середины 30-х гг. фиксировал процессы медитаций, в результате которых разрушалось обычное восприятие времени и предметности и открывался путь "в смерть, и в сумрак, в Широкое непонимание". В повести "Старуха" можно выделить два главных отношения героя к времени: 1) тоска по нелинейному времени - возможно, это малый аналог тоски по бессмертию; и 2) время ожидания. Ожидание вдохновения, затем ухода машиниста из квартиры и др. - вызывает к жизни слежение за линейным, "часоизмеряемым" временем. Ожидание как психологическое состояние, способствующее выявлению времени, было предметом постоянных размышлений и медитаций А.В.Введенского и ещё в 1933-34 гг. обсуждалось в обэриутско-чинарском кругу55. "Почему я так боюсь заболеть сифилисом, или вырвать зуб? Кроме боли и неприятностей, тут есть ещё вот что. Во-первых, это вносит в жизнь числовой ряд. Отсюда начинается система отсчёта. <...> Тут совпадение внешнего события со временем. Ты сел в кресло. И вот пока он варит щипцы, и потом достаёт их, на тебя начинает надвигаться время, время, время, и наступает слово вдруг и наступает наполненное посторонним содеражинем событие. И зуб исчез. Всё это меня пугает. Тут входит слово никогда" ("Заболевание сифилисом, отрезанная нога, выдернутый зуб"). Аналогичные размышления характерны и для Хармса в начале 30-х гг. Они развиваются в текстах "Нуль и ноль" (1931), "Числа не связаны порядком..." (1932?), "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..." (1932). Ряд натуральных чисел Хармс в различных теоретических текстах упорно называет "солярным" ("Нуль и ноль", "Падение ствола"), то есть связанным с временными ориентирами. "Даже наш вымышленный солярный ряд, если он хочет отвечать действительности, должен перестать быть прямой, но должен искривиться" ("Нуль и ноль"; видимо, идею связать линейное время с солнцем Хармс почерпнул из историко-мифологической литературы). Можно предположить, что до "Старухи" Хармс косвенно критикует и идею связывать наблюдение за миром с линейным временем. В "Разговорах" Хармс говорит, что его интересуют, в частности, "числа, особенно не связанные порядком последовательности". Одновременно образ нелинейного ряда чисел сам становится объектом художественного осмысления: уже в тексте "Бесконечное, вот ответ на все вопросы..." пассажи о числах и их порядке и само развитие мысли присвоены "наблдателю", который комментирует процесс написания трактата о бесконечности со стороны: "На этом я понял, что это глупо, глупо моё рассуждение. Я распахнул окно и стал смотреть во двор. Я видел, как по двору гуляют петухи и куры". В рассказе "Сонет" тема "числа не связаны порядком" становится ещё более литературной. Герой рассказа забывает, "что идёт дальше, 7 или 8?". Для того, чтобы узнать порядок чисел, персонажи "пошли в Летний Сад и стали там считать деревья". Ср. в более раннем теоретическом тексте: "Природа не приравнивает одно к другому. Два дерева не могут быть равны друг другу. Они могут быть равны по своей длине, по своей толщине, вообще по своим свойствам. Но два дерева в своей природной целости равны друг другу быть не могут. Многие думают, что числа, это количественные понятия вынутые из природы. Мы же думаем, что числа, это реальная порода. Мы думаем, что числа вроде деревьев или вроде травы" ("Числа не связаны порядком..."). Название "Сонет" указывает на особую упорядоченность, но идея общеизвестного порядка, равно как и возможность о нём договориться, в рассказе подвергнуты осмеянию. Персонажи оказываются (заброшенными) в реальности, где "числа не связаны порядком". В черновом варианте окончания была фраза: "Земля вращается вокруг солнца приблизительно в 357 дней" - при том, что период обращения Земли вокруг Солнца составляет 365 суток с небольшим. Здесь и "солярность" присутствует. Отказ от "линейного" числового ряда, по-видимому, связан с нарушением традиционных временных ориентиров. В черновике рассказ кончался переходом от коммуникативного языка к эмоционально-выразительному, "окказиональным" возгласом "Херюга!" (отвергнутая идея была использована в позднейшем тексте "Все люди любят деньги..." - см.выше). В первую очередь важны его явная эмоционально-фонетическая резкость и алогизм появления. То есть сюжет первого варианта "Сонета" таков: вначале герой теряет ориентацию в числовом ряду, потом не может договориться с другими людьми, затем искажает информацию о физическом мире и переходит к личной зауми. В беловом варианте споры прекратил ребёнок, который "со скамейки свалился... и сломал себе обе челюсти" ("разбить рожу", сломать челюсти - обычный для Хармса мотив; ср. эпизод с вставной челюстью в повести "Старуха"). При всей известной нелюбви Хармса к детям, по-видимому, оба варианта окончания рассказа имеют иронически-остраняющую функцию. Ироническому остранению подвергнуто и само описание мира, где нарушен традиционный "линейный" порядок. В рассказе есть скрытое течение, не совпадающее с поверхностным, которое выражено в релятивизации "линейного" порядка. От текста "Числа не связаны порядком..." к рассказу "Сонет" "неопифагорейское" представление о числах превращается в "образ идеи" (М.М. Бахтин) - из явления скорее идеологического становится явлением эстетическим, "взятым в кавычки". В повести "Старуха" две линии - поверхностная и глубинная - в отношении к линейному времени присутствуют, по-видимому, более явно. Их взаимодействие глубоко конфликтно. На протяжении почти всей повести герою приходится существовать в линейном времени ожидания; от этого времени он отчуждён. А тоска по нелинейному времени и по бессмертию в земной жизни связана с искушением. В повести происходят события, непостижимые для героя. Герой надеется на "чудо наоборот" (А.Г.Герасимова56), на то, что ползающая мёртвая старуха исчезнет, но старуха не исчезает. Происходит чудо, но не то, на которое надеялся герой, а принципиально иное и гораздо более страшное. Герой хочет выкинуть чемодан с трупом в болото, а чемодан у него крадут57. Он не может привести понравившуюся ему женщину домой, потому что в комнате у него мёртвая старуха58. Далее от героя оказываются отчуждены и силы его организма: боль в животе, позывы на дефекацию неподвластны его контролю59. В произведениях Хармса неоднократно указывается на непредсказуемость явления Бога: см., например: "...из тёмных бездн плывут акулы, /в испуге мчатся молекулы, /с безумным треском разбивается вселенной яйцо /и мы встав на колени видим Бога лицо" ("Окнов и Козлов", 1931). Высказывание о Боге принципально антиномично: "Бог велик и мал, /<...> /Бог и свет и мрак, /<...> / Бог свиреп и мил..." ("Гвидон", 1930); "Эй тварь / живая и неживая, /<...> / расступись /перед ним, перед самим/ господином /и таким и не таким!" ("Дон Жуан", 1932). По ходу сюжета "Старухи" герой понимает, что за потусторонними силами, с которыми он непредсказуемо взаимодействует - Бог. Идея отношения к трансцендентному Богу связана с центральным эпизодом повести - разговором с Сакердоном Михайловичем о вере. "- Я хочу спросить вас, - говорю я наконец, - Вы веруете в Бога?60 У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина и он говорит: - Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы только что видели, как он положил в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать;и самый удобный и приятный способ отказа - это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у человека деньги есть, и, тем самым, лишили его возможности просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека "веруете ли Вы в Бога?" - тоже поступок бестактный и неприличный. <...> - Я бы тоже не ответил, - сказал я, - да только по другой причине. - По какой же? - вяло спросил Сакердон Михайлович. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 23-05-2007 08:23 |
| Я смотрю, письма здесь будут даже и не органичны ?))) | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 23-05-2007 08:25 |
| Не вздумайте усмотреть злую иронию. Очень интересно. Мы вообще Хармса знали мало. | |
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 24-05-2007 10:06 |
|
Н. Н. ПУШКИНОЙ. 14 сентября 1833 г. Из Симбирска в Петербург. 14 Симбирск. Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Чёрт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей — гляжу, нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой; по этой на станциях везде по шесть лошадей, а почта ходит четыре раза в неделю. Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что же? не отъехал я и пяти верст. Гора — лошади не взвезут — около меня человек 20 мужиков. Чёрт знает как бог помог — наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом. Авось без приключений. Я всё надеялся, что получу здесь в утешение хоть известие о тебе — ан нет. Что ты, моя женка? какова ты и дети. Целую и благословляю вас. Пиши мне часто и о всяком вздоре, до тебя касающемся. Кланяюсь тетке. |
|
|
Lika Президент Группа: Участники Сообщений: 5717 |
Добавлено: 24-05-2007 10:06 |
|
Н. Н. ПУШКИНОЙ. 14 сентября 1835 г. Из Михайловского в Петербург. Хороши мы с тобой. Я не дал тебе моего адреса, а ты у меня его и не спросила; вот он: в Псковскую губернию, в Остров, в село Тригорское. Сегодня 14-ое сентября. Вот уж неделя, как я тебя оставил, милый мой друг; а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю, когда начну. Зато беспрестанно думаю о тебе, и ничего путного не надумаю. Жаль мне, что я тебя с собою не взял. Что у нас за погода! Вот уж три дня, как я только что гуляю то пешком, то верхом. Эдак я и осень мою прогуляю, и коли бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе, не сделав ничего. Прасковьи Александровны еще здесь нет. Она или в деревне у Бегичевой, или во Пскове хлопочет. На днях ожидают ее. Сегодня видел я месяц с левой стороны, и очень о тебе стал беспокоиться. Что наша экспедиция? виделась ли ты с графиней Канкриной, и что ответ? На всякий случай, если нас гонит граф Канкрин, то у нас остается граф Юрьев; я адресую тебя к нему. Пиши мне как можно чаще; и пиши всё, что ты делаешь, чтоб я знал, с кем ты кокетничаешь, где бываешь, хорошо ли себя ведешь, каково сплетничаешь, и счастливо ли воюешь с твоей однофамилицей. Прощай, душа; целую ручку у Марьи Александровны и прошу ее быть моею заступницею у тебя. Сашку целую в его круглый лоб. Благословляю всех вас. Теткам Азе и Коко мой сердечный поклон. Скажи Плетневу, чтоб он написал мне об наших общих делах. |
|
|
isg2001 Президент Группа: Администраторы Сообщений: 6980 |
Добавлено: 24-05-2007 20:38 |
| На теме сна следует остановиться подробнее. Как уже отмечалось выше, сон (способ перемещения в ирреальный мир), в большинстве случаев, недостижим для героев Хармса с их линейным восприятием мира и/или связан с яркими фантасмагорическими видениями. Разомкнутость границ сна можно интерпретировать как попытку героя воспринять нелинейное время, встроив его в привычные рамки линейного (ср. появление во сне элементов реальности - нож, вилка, сосед, Сакердон Михайлович…). Кроме того, сон, как состояние измененного сознания, сближается (и в какой-то мере предваряет) два других явления - медитацию Сакердона Михайловича (см. ниже) и финальную молитву героя. Юсси Хейнонен, ссылаясь на Стоун-Нахимовскую, пишет, что Сакердон Михайлович (далее С.М.) "занимается медитацией" [55;245]. Ср.: " Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкап пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами." (176). Хейнонен предполагает, что герой стал свидетелем медитации, наблюдая за действиями С.М. через окно, именно поэтому рук "не было видно", так как С.М. сидит лицом к окну. Подглядывая за "интимным контактом с богом" [55;245], герой совершает "неприличный поступок", и осознавая это, отказывается от своей причастности к увиденному. Этим объясняется перемена типа повествования (от первого лица к всезнающей фигуре повествователя). Мы уже говорили, что в поэтике Д.И. Хармса окно - один из способов проникновения в ноуменальное пространство (так же как сон или глядение в воду5). Наблюдая через окно, герой как бы приобщается к видимому им процессу, который в финале трансформируется в молитву - также обращение к Богу (где персонаж из наблюдателя перевоплащается в активно действующее лицо). Сакердон Михайлович становится своеобразныи посредником (ср. отмеченную И. Кукулиным параллель имени Сакердон с латинским Sacerdos - жрец, искуситель). Появление глиняного С.М. во сне отсылает к произведению Мейринка "Голем" и "развивает чувство беспомощности" [24;87] ключевое для понимания всего текста6. Кроме того, имя главного героя "Голема" - "Анастазиус Пернат, то есть "бессмертный по рождению" (первое слово - греческое, второе - латинское)" [24;87]. Что отсылает к разговору о бессмертии, которое опять же оказывается связанным с категорией божественного. Вопрос "Верите ли вы в Бога?" звучит в повести дважды, первый раз он обращен к "милой дамочке", второй - к С.М. Примечательно, что разговору с дамочкой предшествует фраза дублирующая эпиграф: "И между нами происходит следующий разговор" (171), тем самым сообщая ему особый статус, позволяющий рассматривать диалог с С.М. как дополнение, иллюстрацию. Возможно, это обусловлено ответом "дамочки": "В Бога? Да, конечно" (171). Уверенность заключенная в "конечно", не свойственна другим героям Хармса, а ведь именно на ней строится вера в бессмертие, Бога или загробную жизнь, понимаемая как абсолютное (ср. "В трамвае сидели два человека"…: "Если вы ответите да, то будет да, если вы ответите нет, то будет нет. Только ответить надо с полным убеждением <...> с абсолютной верой в свой ответ"(186-187)) И, одновременно, субъективное (ср. в разговоре с С.М.: "нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить" (176)), зависящее от желания.7 Еще один образ из сновидения героя, проходящий рефреном через всю повесть - часы - символ исчисляемости, линейности времени. Примечательно, что вместо стрелок у них были нож и вилка. Отождествляя себя с этими часами, представляющими, по мнению Т.И. Печерской, "проедание" времени, герой чувствует свою причастность линейному времени, неумолимой прогрессии натурального ряда чисел. В одной из темпоральных моделей, актуализировавшейся в начале ХХ века "время имеет как минимум два измерения для одного человека. В одном измерении человек живет, а в другом наблюдает" [36;62]. Это последнее пространственноподобно, по нему можно путешествовать в прошлое и будущее. Оно проявляется в измененном состоянии сознания, т.е. прежде всего во сне. Исходя из этого, можно выстроить цепь взаимосвязанных явлений - сон героя а медтация С.М. а молитва героя - принадлежащих нелинейной темпоральности. Где сон является своеобразной экспозицией, пред-видением (появление часов, глиняный Сакердон); медитация вкупе с мотивом подглядывания, соответственно, символизирует совместное видение (С.М. своеобразный медиатор); молитва героя - самостоятельное обращение к Богу - символу вечности и бессмертия. Налицо инициационный комплекс мотивов, характер реализации которого выделяет повесть из ряда других произведений Д.И. Хармса. Это, возможно, единственный текст, в котором герою удается преодолеть линейность человеческого восприятия. | |
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 24-06-2007 21:40 |
|
Андрей Белянин. Моя жена - ведьма Я устал прятаться от тарелок. Они меня не слушаются! Я живой человек, что мне теперь, и из-за стола встать нельзя? Ей легко говорить, она только взглянет - и все блюдечки стоят по стойке "смирно". - Любимый, если захочешь есть, просто сядь за стол. Я договорилась с посудой, все остальное они сделают сами... И сделали же! Стоило опуститься на табуретку, как из настенного ящика со свистом вылетели нож, ложка и вилка и мягко скользнули на скатерть перед побледневшим мной. Потом начищенный половник, фамильярно подмигнув проплывающей тарелке, эффектно плюхнул в нее хорошую порцию борща. Аромат - на всю кухню... Тарелка плавно, чтобы не расплескать, усаживается между ложкой и вилкой. Последний штрих - хлеб и десертная ложечка сметаны. Немного напоминает знаменитую сцену с варениками из Гоголя, не правда ли? Спрашивается, чем я еще не доволен? Да жене, которая способна так выдрессировать кухонную утварь, надо памятник при жизни ставить и ноги целовать. Не спорю... Даже наоборот, я очень ее люблю, но результат... Мне взбредает в голову, что руки перед едой надо мыть. Ничего не попишешь, подзабыл, с кем не бывает... И вот, когда я встаю, дабы направиться в ванную, эта дура тарелка, до краев наполненная дымящимся борщом, вдруг решает, что ее бросили, и срывается следом за мной. То ли она не рассчитала скорости, то ли я зацепился тапочкой за складку на линолеуме, но последствия... У меня обварена вся поясница и... пардон, то, что ниже. Жена вечером ревела в голос и требовала показать ей именно ту тарелку, чтоб разбить ее сию же минуту. Но злоумышленница, резко поумнев, сразу после моего вопля бросилась мыться и давно замаскировалась на полке с посудой среди своих фарфоровых товарок. Как я ее узнаю? По выражению лица? Вот когда она меня ошпаривала, готов поклясться - лицо у нее было самое вредительское. А теперь... как их отличишь? Прямых улик нет, взятки гладки. Пока супруга ласковыми пальчиками обильно вымазывала мою заднюю часть прохладной мазью, я жалобно уговаривал ее больше не колдовать в доме. Дело в том, что моя жена - ведьма. Не пугайтесь... Видите, я говорю об этом совершенно буднично и спокойно. Ведьма... Да большинство мужчин периодически бросают такой эпитет раздраженным половинам, когда те, в бигуди, застиранных халатах и с остатками вчерашней косметики на помятых лицах, не дают им достойно отметить День Парижской коммуны. Я же всегда произношу это слово с уважением. Никаких обид, никаких оскорблений, ничего личного, просто ведьма... Не такая уж редкость, должен признать. Русь-матушка издревле славилась своей лояльностью ко всякого рода нечисти. Достаточно вспомнить великолепный сборник "Киевские ведьмы", прозу Жуковского и Брюсова, поэзию Пушкина и Гумилева. Про Гоголя вообще молчу, а кто не восхищался дивным романом Булгакова? Многим ли мужчинам досталась такая самоотверженная женщина, как Маргарита? Кто хотя бы раз не мечтал втайне коснуться губами ее колена и услышать: "Королева в восхищении..." Мне повезло. Я так считаю. Мнение других по этому поводу мне безразлично. Если же какой-либо индивидуум начнет особенно сильно настаивать, я забуду о своей врожденной интеллигентности и ударю его по лицу. Он должен быть мне очень благодарен, ибо если за это возьмется моя жена... Один тип, торгаш из соседнего винно-водочного киоска, ухитрился схлопотать от нее пощечину - говорят, его до сих пор лечат. Всю щеку расцветил невероятно большой лишай, и врачи разводят руками, не зная, что с ним делать... История нашей любви проста и романтична. Мы познакомились в библиотеке. Меня пригласили туда на выступление со стихами. Видите ли, я - поэт. В своем городе человек признанный, известный, член Союза писателей. Благодаря этому меня часто приглашают на выступления в разные организации, иногда даже платят, но дело не в этом... Она работала в этой библиотеке, встретила меня у входа, проводила в зал, дальше - как обычно... Вернее, все обычное на этом закончилось. Я посмотрел в се глаза, и мир изменился. Банально? Увы... раньше я и сам пребывал в блаженной уверенности, что подобное происходит лишь в книжках да в кино. Ее глаза карие, необычайно теплые и такие глубокие, что я провалился в них с первого же взгляда. Сам толком не понимая происходящего, я читал все стихи о любви только ей. Я отвечал на вопросы из зала так блестяще остроумно, что она все время хохотала, стоя у стены. Я с трудом отводил от нее взгляд, абсолютно не желая давать себе отчет в полной бестактности столь навязчивого разглядывания посторонней женщины... Прошли три долгих мучительных года, и вот теперь мы вместе. О том, что она - ведьма, Наташа призналась мне в первый же день нашей супружеской жизни. - И не делай такое снисходительное лицо, - строго заявила она. -- Терпеть не могу, когда ты разговариваешь со мной как с сумасшедшей или как с маленькой девочкой, рассказывающей папе страшный сон. Да, я - ведьма! Прошу принять это к сведению и относиться серьезно. - Любимая, ты надеешься, что я одумаюсь и быстренько подам на развод? - Поздно, дорогой! Ни о каком разводе даже не мечтай. Теперь я сама ни за что тебя не отпущу. Просто ты имеешь право знать обо мне всю правду, а правда такова: я - ведьма. - Очень интересно, - снова улыбнулся я, усаживая ее к себе на колени. Это была наша излюбленная поза для задушевных разговоров. Я обнял ее за талию, а она положила руки мне на плечи. - Теперь рассказывай: когда, как и, вообще, с чего ты заметила в себе первые признаки нечистого духа? - Я тебя укушу! - Только не за ухо... ай! Не надо... Я же люблю тебя! - Я тоже тебя люблю. Не говори глупостей. Все далеко не так весело... Ты что-нибудь слышал о передаче дара? - Что-то очень смутное. Вроде как каждый колдун перед смертью должен передать свой дар кому-нибудь, да? - Почти, - серьезно кивнула Наташа. - Как все-таки хорошо, что ты у меня такой начитанный, сам все знаешь. Моя бабушка была верховинской украинкой с Закарпатья. В деревне все знали, что она ведьма, и, когда мы с мамой приезжали к ней на лето, соседские дети дразнили меня ведьмачкой. - Это нехорошо... Дети должны быть вежливыми и дружелюбными, а дразниться... ой! Ухо, ухо, ухо... - Я тебя еще и не так покусаю! - возмущенно фыркнула она, тут же подарив мне утешающий поцелуй. - Ну, пожалуйста, отнесись к моим словам серьезно... Так вот, однажды зимой бабушка заболела. Мы с папой остались в городе, а мама уехала к ней, но не успела: бабушка умерла. Соседи говорили, что это была страшная смерть, она металась, кричала, словно боролась с кем-то, кто душил ее... Уже не помню, какие там были сложности с похоронами, кажется, священник запрещал хоронить ее на кладбище, но в конце концов все уладилось. Мама продала дом со всем содержимым в собственность совхоза и очень сердилась, когда я расспрашивала о бабушке. - Странные отношения для матери и дочери. - Они всегда были напряженными. Бабушка не приняла папу и считала мамин выбор ошибкой. Она даже не писала нам. Меня любила безумно, считая, что я очень похожа на маму, и всегда дарила подарки. Вот так... - И от бабушкиной любви тебе передалось ведьмовство? - Дело в том, что, пока мама была на похоронах, на наш адрес пришла посылка. Папа сам получал ее на почте. Видимо, бабушка отправила ее сразу же, как заболела, или чуть раньше. Там лежали банки с вареньем, какие-то травы, сушеные грибы на ниточке, вроде бы все... По крайней мере, так папа успокаивал разволновавшуюся маму, когда она вернулась. Он не знал, что там был подарок для меня. Между банками лежала коробочка, я ее схватила и спрятала в карман. Потом закрылась в детской и там посмотрела. Это была тяжелая серебряная цепь с необычным крестом из черного металла. Я сразу поняла, какая старая и красивая вещь у меня в руках. Я ее надела и... - И? - Не целуйся, ты меня отвлекаешь... Не целуй, тебе говорят! - Извини, - покаялся я. - Что же было дальше? - Я потеряла сознание. Папа говорил, что он очень испугался, услышав шум в моей комнате. Но, когда он привел меня в чувство, никакой цепочки на шее не было. А цепь я нашла уже утром следующего дня в том же кармашке платья. - Значит, бабушка вложила в свой подарок всю ведьмовскую силу и таким образом передала ее тебе? - Да. Когда мне исполнилось восемнадцать, я ощутила этот дар. - Как именно? - Я могу взглядом двигать предметы. - Рядовой телекинез, - хмыкнул я. - Могу летать. - Обычная левитация. - Могу колдовать. - То есть уверять человека в том, что он видит то, чего нет? Подснежники посреди зимы, кролик в шляпе, белье из Франции и червонцы с потолка... Банальный гипноз. Девочка моя, ты находишься во власти глубоких заблуждений. Мой долг мужа и гражданина взять тебя за руку и отвести к хорошему психиатру, а уж там... Вместо ответа она взглядом подняла со стола чашку остывшего чая и заставила ее медленно вылить содержимое мне за шиворот. С этого момента я ей поверил... x x x Потом она показала мне эту цепь, действительно, старое серебро с черными царапинками, тяжелое и холодное. Крест аккуратно вписывался в правильный квадрат, нижняя планка несколько изогнута вправо, верхняя - влево, но все равно это, несомненно, был крест. Металл мне неизвестный, черный, как чугун, но на ладони легче алюминия. Я попытался примерить, но жена отобрала, покрутив пальцем у виска. - Может взорваться? - кисло пошутил я. - Не умничай... Дара в нем уже нет, но рисковать не хочу. - Боишься, что я стану колдуном? - Милый мой, ну о чем ты говоришь?! - Она всплеснула руками и прижалась ко мне. - Ты хоть понимаешь, каково это - быть колдуном? - Крибле, крабле, бумс! После чего появляются маленькие зеленые человечки и выполняют любое мое желание... - Маленькие зеленые человечки появляются после второй бутылки без закуски. Послушай, ты у меня умница, красавец мужчина, вдобавок замечательный поэт, я тебя очень-очень люблю! Не лезь, пожалуйста, куда не просят... Она меня уговорила. Ей вообще легко это удается, я просто теряю голову от ее поцелуев. Каждый раз напоминаю себе, кто в доме хозяин, каждый раз даю слово обязательно настоять на своем и... Ей достаточно подойти и посмотреть мне в глаза. Только что веревки не вьет. Почему я так свято уверен, что она меня действительно любит? И вот однажды в зимнюю ночь Наташа исчезла. Это произошло примерно через месяц нашей совместной жизни. Началось с того, что я проснулся от непонятной смутной тревоги - жены рядом не было. Подушка еще хранила аромат ее волос, но простыня с той стороны кровати уже была холодной. Я встал, нашарив в темноте шлепанцы, пошел в кухню, включил свет - никого... В туалете и ванной ее тоже не оказалось. Я бросился в прихожую -- Наташина дубленка висела на вешалке, а зимние ботинки уютно прикорнули в углу. Ничего не понимаю, чертовщина какая-то... - Милый, ты где? - Голос моей жены раздался из спальни, заставив меня буквально подпрыгнуть на месте. Ничего не понимаю... Ее же там не было!!! - Что с тобой? - сонно мурлыкнула она, когда я вновь залез под одеяло. - Ты же холодный весь! Иди ко мне, я тебя согрею... Мы жадно прижались друг к другу, и, уже засыпая, я никак не мог понять, что за странный запах исходит от ее черных волос... Второй раз это случилось дня через три. У нас не было четкого распорядка, кто когда встает, кто готовит завтрак, кто нежится в постели. На этот раз первым встал я, Наташа спала, свернувшись теплым комочком и натянув одеяло до самого носа. За окном шел снег. Я быстренько влез в штаны, прошлепал на кухню поставить чайник, а вернувшись, присел на краешек кровати, любуясь этой женщиной. Мне очень нравилось смотреть на нее спящую... Такую беззащитную, трогательно-ранимую и безумно родную. Вот тут-то я опять почувствовал режущий ноздри запах. Оглядевшись, я невольно склонился над безмятежно посапывающей женой, и... запах усилился! Он шел от ее волос... Резкий, душный запах псины! Нет, чего-то очень похожего, но иного... более дикого, что ли... Наташа так неожиданно распахнула глаза, что я вздрогнул. - А-а-а... это ты... - Она сладко потянулась, выпростав из-под одеяла смуглые округлые руки. - Опять подглядываешь? Ну как тебе не стыдно, заяц... Сколько раз я тебя просила... - Ты ничего не чувствуешь? - перебил я. - Хм-м... нет, а что? - Она недоуменно хлопнула ресницами. - Здесь пахнет... собачьей шерстью или чем-то очень похожим. - Да? - И пахнет от тебя, - пояснил я. - Сережка, милый, ну что ты несешь? - мягко улыбнулась Наташа, забрасывая руки мне на шею. Одеяло скользнуло по ее груди, и я вновь почувствовал томительно-сладкое головокружение. - Нет, погоди... Я - в душ! Она выскользнула из моих объятий, как волна, и через некоторое время уже звала меня из кухни. Чайник закипел. Наташа доставала из шкафчика банку кофе. Она только что вылезла из ванны, и ее мокрые волосы источали аромат зеленых яблок. Ненадолго я забыл о странном запахе... Наташа сама заговорила со мной в следующую же ночь, когда мы, горячие и усталые, пытались улечься поудобнее, чтобы хоть какую-то часть этой ночи посвятить именно сну. - Что-нибудь не так? - Любимая, ты у меня просто чудо... Живой огонь! Я никогда не встречал такой женщины. - Не выкручивайся. - Она приподнялась на локте, заглядывая мне в глаза. - Ну вот зачем ты так со мной? Я же все вижу... - Что ты видишь? - Ты опять принюхиваешься к моим волосам. - Вовсе нет. Просто твоя голова лежит у меня на груди, я вдыхаю и выдыхаю, вот и создается иллюзия... - Ты уверен, что тебе надо это знать? - перебила Наташа. Я пожал плечами, мы помолчали. - Ты прав. Конечно же ты во всем прав. Раз уж мы вместе, то ты имеешь право знать обо мне все. Я... я надеялась, что, может быть, ты не заметишь, но... У меня появились определенные проблемы. - Тогда рассказывай. Пока мы едины - мы непобедимы! Ай! Ухо... не кусайся! - Кусалась и буду кусаться! Вредина... Я с ним серьезно разговариваю, а он от меня дурацкими лозунгами кубинской революции отмахивается. Не буду говорить! - Все, все, все... Смилуйся, государыня рыбка! Ты хотела поделиться со мной нашими проблемами. - Нашими? - Естественно, ибо как муж принадлежит своей жене, так и жена принадлежит своему мужу, - важно заключил я. Наташа встала, подошла к окну и отдернула занавеску. На ультрамариновом небе, среди серебряной россыпи звезд, матово отсвечивал розоватый диск луны. - Полнолуние... Я смотрел на залитое холодным блеском тело моей жены, почти не дыша от немого восхищения. Она была так недосягаемо прекрасна, как мраморная статуя Венеры в Эрмитаже, как "Источник" у Энгра или "Утро" у Коненкова. Я бы мог назвать еще кучу имен и произведений искусства, но самое дивное творение самой природы стояло сейчас передо мной. - Ты можешь хоть минуту не думать обо мне как о женщине?! - Могу... после девяноста восьми. - Дурак... только попробуй. - Она едва не прыснула со смеху, но вновь попыталась взять серьезную ноту: - Ты видишь, в небе полная луна. В такие ночи Силы Тьмы берут над нами особую власть. Я - ведьма, и я тебя люблю. Поэтому я ухожу далеко, далеко... - Ничего не понимаю. Какие Силы Тьмы? Какая еще власть? Почему и зачем тебе надо куда-то уходить? - Затем, что я не всегда могу контролировать свои чувства. Затем, что звериные инстинкты берут верх, а я не могу себе позволить причинить тебе хоть малейший вред. Я ухожу в другие миры... И возвращаюсь почти тут же. То, что является целым днем там, здесь занимает меньше минуты. Умение сворачивать время - серьезный плюс ведьмовства. Раньше мне удавалось проделывать это незаметно, теперь ты стал замечать. Значит, время настало... - Любимая, иди ко мне... - Я протянул руки в надежде, что она, как всегда, бросится ко мне в объятия, а уж там... в общем, вдвоем мы сумеем развеять ее депрессию. - Нет... - Голос Наташи неожиданно наполнился пугающей грустью. -- Не надо... пожалуйста. Просто посмотри. Ничего не говори, ничего не делай, даже не двигайся - смотри... Она шагнула в центр комнаты, быстро вскинула руки вверх, запрокинула голову и на мгновение замерла в напряженной позе. Потом - неуловимое глазу движение, словно бы кувырок или кульбит через спину, и... в нашей спальне на ковре встала волчица! Я потерял дар речи, все тело словно сковало леденящим холодом страха, а дикий зверь втянул ноздрями воздух, пристально посмотрел на меня круглыми желтыми глазами, крутанулся на месте и исчез. Прошла невероятно долгая минута, пока Наташа вновь не оказалась на прежнем месте. - Теперь ты видел, теперь ты знаешь. Я молчал. Она недоверчиво сощурилась, толкнула меня в плечо, а я повалился с кровати на пол, как пластмассовый манекен. Жена накинула халатик и бросилась к холодильнику за водкой. Через полчаса эффективных растираний мои мышцы пришли в прежнюю норму, но говорить я смог гораздо раньше. Правда, не помню, о чем конкретно я тогда так кричал. Кажется, ругался... Или молился?.. |
|
|
Tusik Мыслитель Группа: Участники Сообщений: 841 |
Добавлено: 24-06-2007 21:41 |
|
x x x К вечеру следующего дня, за ужином, мы вновь вернулись к прежней теме. Первым не выдержал я, признаюсь... - Любимая, это... ну, не очень больно? - Нет. - Она сразу поняла, о чем я, и, отставив чашку, взяла мою ладонь в свои. Ее глаза были ласковы и печальны. - Почему ты спрашиваешь? - Так... обычно в фильмах ужасов человека ломает, корежит, у него меняются формы, трансформируются кости и мышцы, растут зубы, лезет шерсть... Все это сопровождается жуткими криками, слезами, судорогами. Как это происходит у тебя? - Наверное, это труднообъяснимо... В полнолуние я ощущаю своеобразный зов, словно сама кровь иначе движется в жилах, сердце бьется по-другому, даже зрение меняется. Я вижу тонкие миры, ощущаю вокруг себя иную сущность вещей, запахов, цвета... Кожа становится такой тонкой, что кажется -- ветер проходит сквозь меня. Потом мгновенный всплеск боли, сладкой до умопомрачения... Все человеческое исчезает - и я смотрю на мир глазами волчицы. Я оказываюсь в другом месте, другом измерении, другом мире, если хочешь... - Эти... миры, они всегда разные? - Да. Или, вернее, их несколько, иногда попадаешь в один и тот же. Это бывает лес, пустыня, заброшенный город. Я помню какие-то смутные обрывки самых ярких впечатлений, в основном это связано с бегом за кем-то или от кого-то. Охота, погоня, бой. Когда происходит акт возвращения в прежнее тело, я не успеваю запомнить. Но это всегда бывает только здесь, только в этом мире. Там я не могу стать человеком, хотя убеждена - именно те миры насыщены магией до предела. Возможно, нам позволяют в них лишь заглянуть, но не разрешают в них жить. - Нам? - немного удивившись, переспросил я. - Нас несколько. Я иногда вспоминаю свой бег в стае. Среди настоящих волков были и волки-оборотни. У них совершенно другой, по-человечески осмысленный взгляд. Мы сразу узнаем друг друга и стараемся держаться подальше. Там есть огромный серебристо-серый волк, его взгляд наполняет меня ужасом. Я не могу объяснить почему... Мне кажется, что я ощущаю исходящее от них зло. Мы разные... Если бы они могли меня догнать, то обязательно бы убили. - Любимая, ты уверена, что от этого нельзя никак излечиться? - Глупый... - Наташа опустила голову, нежно потерлась щекой о мою ладонь и грустно закончила: - Ты думаешь, я не пыталась? Я перепробовала все, даже ходила в церковь. Кончилось тем, что один священник убедил меня согласиться на экзерсизм. Он утверждал, что ночью в церкви путем специальных молитв ему наверняка удастся изгнать из меня дьявола. Я оказалась такой дурой, что пошла... Когда наступила полночь, я разделась и встала у алтаря, этот тип пошел ко мне, пуская слюну от похоти... Как меня не стошнило?! Потом был мгновенный переход... Вернувшись в свое тело, я обнаружила его тихо скулящим под какой-то скамьей. Он прижимал к груди правую руку, располосованную волчьими клыками... - И это священник?! - Он тоже человек, не стоит его осуждать. - Знаешь... - Я замолчал, не в состоянии четко сформулировать обуревавшие меня чувства. - Я очень хочу тебе помочь. И очень за тебя волнуюсь... не бегай там... где попало. - Родной мой, милый, единственный... Никогда за меня не переживай, я же ведьма. - Ты - моя жена, - строго напомнил я. - Не будешь слушаться -- применю физическую силу! - Прямо сейчас? - кокетливо изогнулась она. - Слушай, а мне как-нибудь нельзя с тобой? - Нет. Ни-ког-да! Даже думать об этом не смей. - А что? Ты - ведьма, я переквалифицируюсь в колдуны. Почему тебе можно, а мне нельзя? - Так, Сергей, слушай меня внимательно. - Ее голос заметно похолодел, а в глазах мелькнули недобрые искорки. - Если ты меня любишь, если ты хочешь, чтобы мы были счастливы, - обещай мне никогда не лезть в Темные миры! - Обещаю. А что такое Темные... Тут она встала с табуретки и поцеловала меня. Около часа мы были очень заняты... Смутно помню, о чем она еще просила; я, конечно, все обещал. Да Боже мой, разве возможно отказать такой женщине?! Меня слегка напрягало, что я так легко забыл свои клятвы, или, вернее, сами клятвы-то я помнил, а вот по поводу чего... Но, с другой стороны, ведь всегда можно переспросить. Если бы я только знал, как скоро... Проснувшись утром, я тихо встал с кровати, чтобы не разбудить еще дремлющую жену. Поставив чайник, я прошел в ванную, умылся, почистил зубы, выйдя, вновь завернул на кухню взять все необходимое для романтичной подачи кофе в постель. Но, видимо, шум воды или скрип двери разбудил Наташу. Она уже открыла глаза и сладко потягивалась, когда я вошел. - Доброе утро, милый... - Договорить она не успела: взглянув на ее лицо, я выронил поднос. Чашки вдребезги, сахар рассыпался по полу, сгущенное молоко медленно вытекало из уцелевшей розетки... Губы моей жены были перепачканы подсохшей кровью! Она все поняла. Подхватив халат, опрометью бросилась в ванную, а через пару минут сквозь плеск воды мне послышались сдавленные рыдания. У меня самого был такой шок... Я всерьез задумался о том, каково интеллигентному человеку в действительности связать свою жизнь с настоящей ведьмой. Происходящее начинало слегка действовать на нервы, а если честно, то я впервые почувствовал признаки скользкого, безоглядного страха... Потом мне стало стыдно. Мои покойные родители никогда не простили бы своему мальчику трусости. "Сон разума рождает чудовищ...", по знаменитому офорту Гойи. Разберись, а уж потом бойся, если и вправду есть чего. В действительности ни один мир не в состоянии показать нам таких ужасающих монстров, которых рисует наше же воображение. Не знаю, как я должен был поступить в данной ситуации: устроить допрос с пристрастием, все простить и забыть навеки, просто пожалеть, немедленно развестись, отправить ее в монастырь на покаяние или в научный институт для серьезного изучения... Не знаю. Ясно было одно - ей плохо. Я пошел в ванную. Она сидела на холодном кафельном полу, закрыв руками лицо, и тихо по-девчоночьи ревела. Я сел рядом, силой подтянул ее к себе, и на моей груди она разрыдалась еще более бурными слезами. Возможно, я что-то говорил, как-то пытался утешить... Все слова забылись, вряд ли они были важными и многозначительными. Те, у кого на руках хоть раз безоглядно плакала любимая женщина, меня поймут. Можно говорить все, что угодно, значение имеют не сами слова, а их тональность. Я убаюкивал ее своей неуклюжей лаской, и вскоре Наташа притихла, лишь иногда судорожно-нервно вздыхая. Мне не хотелось ее расспрашивать. Если она так рыдала, то, значит, положение на самом деле куда хуже, чем я мог бы предполагать... Она отводила взгляд, словно боясь прямо посмотреть мне в глаза. Я легко поставил ее в ванну и заставил принять теплый душ. Сам растер полотенцем, обернул в махровую простыню и на руках унес в кухню. Она все время молчала, но, когда я попытался усадить ее на табурет, чтобы налить чаю, тихо попросила: - Не отпускай меня, мне страшно... Тогда я осторожно сел сам и постарался поуютнее устроить ее на моих коленях. - Расскажи, тебе легче станет. - Но ты же видел... ты же сам все видел... - Не надо. Не кричи и не плачь больше. Я не брошу тебя одну. Только, пожалуйста, расскажи мне все... - Я... я же почти ничего не помню... - сбивчиво заговорила она, шмыгая распухшим от слез носом. - Там был город... мы куда-то бежали стаей. Потом я отстала, мне почудился запах страха из дверей какого-то дома. Я вошла... город давно заброшен, там никто не живет, но здесь оказалась девочка. Маленькая, очень худая и бледная, лет пяти... Она испугалась и закричала. Кажется, на ее крик пришли другие волки, те... оборотни. - Что было дальше? - Не знаю... не помню... я не могла... Боже мой, неужели на моих губах была ее кровь?! Наташа смотрела на меня совершенно безумными глазами, а я не знал, что ей ответить. Наверное, она надеялась на то, что я большой, умный и сильный, что все само собой как-то исправится, сладится, изменится, если еще крепче прижаться ко мне, то все снова станет хорошо. Я гладил ее по голове, как ребенка, которому приснился страшный сон. - Сережа! У тебя дрожат руки... - Я знаю, любимая... не обращай внимания, это нервы. - Ты... из-за меня? - Конечно. Я, наверное, никогда не смогу не принимать твои проблемы близко к сердцу. Я волнуюсь за тебя... - Завтра луна пойдет на убыль. - Слабое утешение... А что мы будем делать в следующем месяце? - Не знаю... - Послушай, - вдруг вспомнил я. - Но ведь астрономически полнолуние длится лишь одну ночь, если быть точным, даже несколько часов. Почему же ты превращаешься в волчицу уже почти неделю? - Это зов. Пока глаз человека видит полную луну - Силы Тьмы берут свое. Обычно именно семь дней каждого месяца мы приобретаем возможность перекидываться в зверя. Хотя я... о чем говорю? Какая возможность? Можно подумать, что кто-нибудь спрашивает наше мнение... Чужая воля безжалостно превращает меня в волка и выбрасывает в неведомый мир. Любимый, - Наташа вновь пристально вгляделась мне в глаза, ее черты исказились болью, - я не могла убить ребенка! Ты веришь мне? - Верю. Я не лгал ни ей, ни себе. Где-то глубоко в подсознании зрела твердая уверенность, что моя жена ни в чем не виновата. Да, кровь... Да, на ее губах... Да, она - ведьма. Но она моя жена, и я буду последним подонком, отказывая ей в помощи и защите. Что-то не так в том неведомом мире. Разберемся без суеты... x x x - Не отпускай меня туда, ладно? - по-детски наивно просила Наташа. Мы по-прежнему сидели на кухне. Она уже успокоилась, слезы высохли на щеках, и только припухшие веки выдавали, сколько ей пришлось сегодня плакать. Я заставил ее немного поесть, достав из холодильника остатки рыбного салата и помидоры. Помидоры вообще были ее слабостью. Она рассказывала, что однажды, читая книгу, в течение полутора часов неторопливо съела целое ведро ярко-красных "яблок любви". Думаю, это было правдой, в дни ее плохого настроения я покупал хотя бы один помидор и сразу становился в ее глазах самым замечательным мужем на свете. После кофе она еще раз повторила: - Я не хочу туда больше, я боюсь... - Девочка моя, нас никто не сможет разлучить. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно должен быть способ как-то избавиться от этого проклятия. Давай поищем по библиотекам, я прочел массу умных книг, что-то подобное там наверняка встречалось, просто надо вспомнить и найти. Этой ночью я крепко-накрепко прижму тебя к себе и ни за что не отпущу! - А если я превращусь в волчицу? - Тогда я тебя поцелую, и проклятие злой колдуньи развеется как дым! Она улыбнулась вместе со мной: - Ах, Сережка, какой же ты все-таки родной... - Стараюсь... налить еще чашечку? - Ага, с лимоном, пожалуйста. Я встал у нее за спиной, зажег газ и... увидел застрявший в Наташиных волосах клочок серой шерсти. Волчья? Не долго думая, я вытащил его и бросил в пламя горящей конфорки! Шерстинки мгновенно сгорели, оставив в воздухе удушливый запах... - Что ты сделал? - Там у тебя зацепились несколько волосков волчьей шерсти и... - Ты их сжег?! - Наташа мгновенно вскочила с табуретки, схватила меня за грудки и совершенно безумным голосом закричала: - Что же ты наделал?! Дурак... Господи, какой же ты дурак! Это... этого нельзя... Ты ведь погубил меня, понимаешь?! Я - ведьма, оборотень, а ты сжег мою шерсть... - Глупости! Успокойся, пожалуйста. Уверяю тебя, ничего страшного не произошло. Сейчас я открою форточку, и весь запах уйдет... - Зов... опять зов... - Она отвела взгляд, ее слова становились все тише и тише. - Ты опоздал... вернее, мы опоздали... Сережа, Сереженька, Сережка мой... прощай, любимый! В ту же минуту она исчезла. Просто как будто никогда и не стояла рядом. Я обмер... Все произошедшее было слишком нереальным для того, чтобы в это можно было поверить. Не мог же я в самом деле воспринять всерьез непонятное исчезновение собственной жены только из-за того, что какой-то клочок собачьей или волчьей шерсти сгорел в синем пламени газовой конфорки? Это... глупо, в конце концов! Мне совсем не улыбается отождествлять себя с недалеким Иваном-царевичем, поспешно спалившим лягушачью шкурку в русской печи. Тем более что ему-то, оказывается, лишь три дня подождать надо было. А в моем случае сроки значения не имели. В какой-то тупой растерянности я опустился на табурет и просидел так не меньше часа. Все мысли неуклонно сводились к одному - ее здесь нет. Дальше - больше... Я начал нервничать. Что, если в ее исчезновении действительно виноват только я? Где она? Куда пропала? Когда теперь вернется и вернется ли вообще? Почему она со мной попрощалась?.. В том же отупелом состоянии я прошел к холодильнику, достал начатую бутылку водки и вернулся к столу. За ним уже сидели двое. Белый и черный. Оба с крылышками, у одного на манер лебединых, у другого - типа нетопыря. На лицо совершенно одинаковые, как близнецы, различались лишь цветом волос и прической. Белый - с роскошными льняными кудрями, художественно спадающими на плечи. Волосы черного гладко зачесаны назад, открывая большие залысины у висков, и перехвачены резинкой на затылке. Оба в длинных одеждах, у одного серебристо-белая парча, у другого - "мокрый шелк" иссиня-черного цвета. Мне было все равно, я уже во все верил. Такое бывает в двух случаях: либо переутомление мозгов, либо пьяные галлюцинации. Скорее первое, так как еще не пил вроде... - Водочка? Разливаем на троих! - с ходу предложил черный. - На двоих, - поправил белый. - Лично я пить не буду и ему не советую. Такая мерзость... - Не слушай его! - подмигнул мне черный. - Давай хряпнем по маленькой. Кровь разогреем, а этот зануда пусть завидует... - Фармазон! Тебе должно быть стыдно! У человека горе, а ты на что его толкаешь? Ох и любите вы все прибирать к рукам заблудшие души... стоит бедолаге хоть один раз споткнуться - ты уж тут как тут! - Слушай, Циля... - угрожающе нахмурился тот, что с хвостиком. Только теперь я обратил внимание на маленькие рожки у него на лбу. - Анцифер! Прошу обращаться ко мне по полному имени, - вежливо, но твердо потребовал его оппонент, и нимб над его головой засиял, как неоновая реклама. Я вздохнул, развернулся и направился в комнату. Когда в твою квартиру запросто приходят черт с ангелом обсудить собственные проблемы - еще полбеды, но если ты пытаешься с ними общаться - это уже шизофрения. Спасибо, я пока в своем уме... - Эй, ты куда? - Вот видишь, до чего человека довел... - Ну ладно, сам уходишь, бросаешь гостей, хорош хозяин... но бутылку-то зачем уносить?! - Стыдись! - А чего? Он же сам ее достал, чего же теперь зажиливать?! - Сергей Александрович! - Тот, что в белом, догнал меня на пороге комнаты и извиняющимся тоном попросил: - Вы уж не сердитесь на нас, вернитесь, пожалуйста. Простите, Христа ради, что без приглашения, но ведь, с другой стороны, и обстоятельства чрезвычайные. Вы вот переживаете очень, а психика у поэтов такая ранимая... Не приведи Господи, руки на себя наложите, как же можно? - Можно, можно!.. - донеслось с кухни. - Валяй, Серега, не трать времени на болтовню. Семь бед - один ответ! Все равно тебе с твоими грехами Рая не видать как своих ушей, редактора стихи зажимают, серьезная поэзия в упадке, народ больше "чернуху" читает - ради чего жить? Иди сюда. Давай выпьем, а потом я тебе покажу, как петлю со скользящим узлом на гардины ладить. Это меня добило. Я очень незлобивый и добропорядочный человек, но когда собственные галлюцинации перешагивают все границы и начинают над вами же издеваться... - А не пошли бы вы оба?.. - Что?! - Они так удивились, что у белого захлопали ресницы, а у черного встал дыбом хвостик. Какое-то время мы втроем пристально разглядывали друг друга. - Циля? - Анцифер! - Не важно, отбросим формальности... По-моему, он в нас не верит. - Ничего удивительного, у человека большое горе... - Ха! Да он первый мужчина в мире, считающий исчезновение собственной жены горем... Другой бы на его месте уже отплясывал румбу от счастья! - Какой ты все-таки циник, Фармазон! - Но ведь она же ведьма?! - И что с того? Он ее муж, а как сказано в Писании: "Жена да спасется мужем своим..." Сергей Александрович, ну пройдемте же на кухню. Там у вас уютно, я, признаться, и чайничек успел поставить. Фармазон, выключи, слышишь - свистит?! - Ну на фига ему чай? Циля, давай... - Мое имя - Анцифер!!! - грозным, но тонким голосом взревел тот, что в белом, а нимб над его головой принял цвет раскаленного железа. - Я требую от тебя, нечистый дух, должного уважения и соблюдения элементарных норм вежливости! - Ша! Ладно, ладно... не горячись! - примиряюще поднял руки вверх черный. - Что я такого сказал? Ну хорошо, я жутко извиняюсь... Все довольны? Просто мне тоже хочется помочь человеку, он же так и не выпускает из рук эту несчастную бутылку. А ну, поставь ее на стол! - Ребята, у меня жена пропала, - неожиданно для самого себя сказал я. Близнецы сразу прекратили пререкания. Белый усадил меня на табуретку, а черный, завладев наконец вожделенной водкой, быстренько раздобыл рюмочки, заботливо разлил на троих и даже ухитрился успеть намазать бутерброды. - Позвольте представиться - Анцифер. Светлый дух, прообраз ангела-хранителя, некая чистая и возвышенная субстанция вашей собственной души. Я был слишком потрясен исчезновением Наташи, чтобы хоть для вежливости изобразить некоторое подобие удивления. Поэтому просто кивнул. - Фармазон! - хлопнул меня по плечу второй. - Все то же самое с точностью до наоборот. Темный я... Все, что есть в вашей душе грязного, низменного и порочного, в моей высокой компетенции. Ну, так чего ждем, Александрыч? Давайте-ка все по маленькой в честь знакомства. Я автоматически чокнулся с ними, опрокинул рюмочку и закашлялся. Водка не моя стихия, в холодильнике ее держали исключительно как растирание от простудных заболеваний. Анцифер пил медленно и деликатно, не забыв себя осенить крестным знамением. Фармазон же, наоборот, тяпнул с лихостью и удальством, говорившим о большом опыте. Я посмотрел на одного, на другого... Черт и ангел, добро и зло, свет и тень, водка и белая горячка. С одной-то рюмки? Я обхватил голову руками... - Может, споем? - предложил черный. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>> |
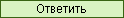
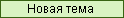
|
| Театр и прочие виды искусства / Общий / Пример для подражания. |