
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
| Театр и прочие виды искусства -продолжение / Курим трубку, пьём чай / Пример для подражания. |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 7 8 9 10 11 12 13 Next>> |
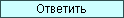
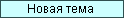
|
| Автор | Сообщение |
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 31-01-2009 18:51 |
|
Mariaz Я нашел в Интернете любовь, Виртуальную юную стерву, Что попала мне в глаз, а не в бровь, Правда, был этот случай не первый. Я по клавишам серым долбил Лихорадочно несколько суток И любил ее, стерву, любил Настоящей любовью, без шуток. Я дарил ей игрушки, цветы, Что похитил с соседнего сайта, От ее неземной красоты Я балдел до последнего байта. А она издевалась, змея, Посылая мне новые фото, От которых в мозгах у меня Закипало неясное что-то. Проведя три недели без сна И ни в чем ей уже не переча, Я ее уломал, и она Согласилась на первую встречу. Долго ждал. Жизнь прокручивал вспять. Думал встретить её комплиментом. А она оказалась опять Бородатым очкастым студентом. |
|
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 03-05-2009 21:28 |
|
Он: У тя деньги есть?! Она: Пошел на хуй!!! Он: А у меня есть! Она: Бля, прости. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 01-12-2009 11:48 |
|
А.Шленский Письмо коллеге-литератору. Разнообразие порождается однообразным предъявлением разнообразных вещей или же напротив, многообразным предъявлением однообразных вещей. Однообразие появляется в результате однообразного предъявления однообразных вещей или же напротив, разнообразного предъявления разнообразных вещей в таком количестве и с такой скоростью, что исчезают всякие различия. Однообразие вызывает утомление, зевоту и внутренний протест. Разнообразие вызывает беспорядочную активность с последующим угасанием интереса, а затем утомление, зевоту и внутренний протест. Чередующаяся смена однообразия и разнообразия вызывает всплески беспорядочной активности с последующим угасанием интереса, переходящим в недоумение и тоску, и в итоге утомление, зевоту и внутренний протест. На стадии внутреннего протеста тоскующий взгляд устремляется в небо, которое представляется паршивой овчинкой, не стоящей выделки. Это уже не разнообразие и не одноообразие, а натуральное безобразие. Безобразие есть последствие разнообразных проявлений однообразия. Безобразие, протекающее в острой форме, характеризуется битьем посуды, визгливыми воплями и вставлением сигареты в рот не тем концом с последующим поджиганием фильтра. Характерное слово - б....дь, характерный напиток - водка. Хроническое безобразие характеризуется отключением телефона, чтением старых подшивок журнала Огонёк, истерическим смехом и плачем в произвольной последовательности и весьма часто - увольнением с работы. Характерное слово - дерьмо, характерный напиток - что нальют. Рано или поздно внутренний протест иссякает и сменяется всплесками беспорядочной активности, безобразие сменяется однообразием или разнообразием, и цикл повторяется с небольшими вариациями. По окончательному завершению всех циклов нет уже ни разнообразия, ни однообразия, ни безобразия. Вселенная съеживается в булавочную головку, и внутри этой головки умещаются все без исключения вещи, которые ранее носились в вихре однообразия и разноообразия. Их стройный и нерушимый порядок вызывает глубокий и неподдельный интерес, но к сожалению все это происходит настолько быстро, что никто не успевает состроить удивленное лицо. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 21-12-2009 12:36 |
|
Письма Е.И.Рерих письмо от 17.12.1935 Крайне интересно всё, что Вы пишете… Страдания от сознания ужасной катастрофы, ожидающей нашу планету, если человечество не опомнится, мне очень близки. Сама я от раннего детства находилась под гнётом предчувствия надвигающейся катастрофы. Повторные сны-видения о гибели планеты оставили неизгладимый след в сознании. Также не забуду тех дней, уже в зрелом возрасте, когда мне был указан предельный срок испытания для нашей планеты и была явлена удушающая абсолютная тьма. Несколько дней после этого переживания я находилась в тяжком нервном состоянии. Сказано: «Не многие могли видеть этого врага планеты [абсолютную тьму] без заболевания». Теперь, конечно, ужас и гнёт преоборены, но всё же остаётся грусть о возможности такого конечного разрушения. ...Теперь, о том, что Н. К. не говорит о теперешней России, то для каждого чуткого духа это должно быть понятно. Н. К. глубоко любит и предан своей родине, и чувство это настолько сокровенно, что говорить о нём среди непонимающих или же враждебных элементов было бы просто кощунством. На Востоке не принято упоминать о самом сокровенном, в этом отношении Н. К. принадлежит Востоку. Сердце его видит и знает многое такое, что другими ещё не вмещается. Эволюция творит свой непреложный космический ход, и великий исторический отбор совершается на всём пространстве планеты. Все, искренно любящие свою родину, понимают, как бережно нужно относиться к ней во время тяжкого и болезненного перехода к новому устроению, после грандиозного взрыва, всколыхнувшего все её глубины. Родина наша уже вступила на путь выздоровления и ищет новый славный путь. Самое отрадное явление — это что массы проснулись к сознательной жизни, к пониманию общего сотрудничества, и жажда знания среди молодежи велика. Конечно, перебои неизбежны, но большой сдвиг в сознании народа несомненен. Потому не следует ли проявить к родине сугубую бережность? ...Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Кто-то уже начинает это сознавать. Хотя ещё недавно все думали обратное, именно, что гибель России есть спасение мира, и прикладывали свои старания, чтобы разложить и расчленить её по мере возможности. Велик был страх перед ростом России, и если страх этот по существу имел основание, то всё же никто не относил его к правильной причине. Так страшились всяких захватов со стороны России, но никто не сумел предвидеть и учесть последствий того взрыва (многие усиленно помогали ему), который должен был нарушить мировое равновесие. Велики последствия взрыва в России! Очищенная и возрождённая на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительства, Россия станет оплотом истинного мира. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 21-12-2009 12:45 |
|
Платон Рассказ Сократа о загробных воздаяниях Публикуется по книге: Платон. Соб. соч. в 3-х тт. Т.3 (1). М.,1971. – Я передам тебе не Алкиноево повествование, а рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армения, родом из Памфилии[1]. Как-то он был убит на войне; когда через десять дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли ещё целым, привезли домой, и когда на двенадцатый день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил, а оживши, рассказал, что он там видел[2]. Он говорил, что его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то божественному месту, где в земле были две расселины, одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две[3]. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым – идти по дороге налево, вниз, причём и эти имели – позади – обозначение всех своих проступков. Когда дошла очередь до Эра, судьи сказали, что он должен стать для людей вестником всего, что здесь видел, и велели ему всё слушать и за всем наблюдать. Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселинам – неба и земли, а по двум другим приходили: по одной подымались с земли души, полные грязи и пыли, а по другой спускались с неба чистые души. И все, кто бы ни приходил, казалось, вернулись из долгого странствия: они с радостью располагались на лугу, как это бывает при всенародных празднествах. Они приветствовали друг друга, если кто с кем был знаком, и расспрашивали пришедших с земли, как там дела, а спустившихся с неба – о том, что там у них. Они, вспоминая, рассказывали друг другу – одни, со скорбью и слезами, сколько они чего натерпелись и насмотрелись в своём странствии под землёй (а странствие это тысячелетнее), а другие, те, что с неба, о блаженстве и о поразительном по своей красоте зрелище. Но рассказывать всё подробно потребовало бы, Главкон, много времени. Главное же, по словам Эра, состояло вот в чём: за всякую нанесённую кому-либо обиду и за любого обиженного все обидчики подвергаются наказанию в десятикратном размере (рассчитанному на сто лет, потому что такова продолжительность человеческой жизни), чтобы пеня была в десять раз больше преступления. Например, если кто стал виновником смерти многих людей, предав государство и войско, и многие из-за него попали в рабство или же если он был соучастником в каком-нибудь другом злодеянии, за всё это, то есть за каждое преступление, он должен терпеть десятикратно большие муки. С другой стороны, кто оказывал благодеяния, был справедлив и благочестив, тот вознаграждался согласно заслугам. Что Эр говорил о тех, кто, родившись, жил лишь короткое время, об этом не стоит упоминать. Он рассказывал также о ещё большем воздаянии за непочитание – и почитание – богов и родителей и за самоубийство. Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардией. Этот Ардией был тираном в каком-то из городов Памфилии ещё за тысячу лет до того. Рассказывали, что он убил своего старика отца и старшего брата и совершил много других нечестии и преступлений. Тот, кому был задан этот вопрос, отвечал на него, по словам Эра, так: «Ардией не пришёл, да и не придёт сюда. Ведь из разных ужасных зрелищ видели мы и такое: когда после многочисленных мук были мы уже недалеко от устья и собирались войти, вдруг мы заметили Ардиея и ещё некоторых – там были едва ли не сплошь всё тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники; они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рёв, чуть только кто из этих злодеев, неисцелимых по своей порочности или недостаточно ещё наказанных, делал попытку войти. Рядом стояли наготове дикие люди с огненным обличьем. Послушные этому рёву, они схватили некоторых и увели, а Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам, причём всем встречным объясняли, за что такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множества разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх, как бы не раздался этот рёв, когда кто‑либо из нас будет у устья; поэтому величайшей радостью было для каждого из нас, что рёв этот умолкал, когда мы входили». Вот какого рода были приговоры и наказания и прямо противоположными им были вознаграждения[4]. Всем, кто провёл на лугу семь дней, на восьмой день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за четыре дня прийти в такое место, откуда сверху виден луч света, протянувшийся через всё небо и землю, словно столп, очень похожий на радугу, только ярче и чище. К нему они прибыли, совершив однодневный переход, и там увидели, посредине этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей: ведь этот свет – узел неба; как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод[5]. На концах этих связей висит веретено Ананки, придающее всему вращательное движение. У веретена ось и крючок – из адаманта, а вал – из адаманта в соединении с другими породами. Устройство вала следующее: внешний вид у него такой же, как у здешних, но, по описанию Эра, надо представлять себе его так, что в большой полый вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются ящики. Таким же образом и третий вал, и четвёртый, и ещё четыре. Всех валов восемь, они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют непрерывную поверхность единого вала, ось же эта прогнана насквозь через середину восьмого вала. Первый, наружный вал имеет наибольшую поверхность круга, шестой вал – вторую по величине, четвёртый – третью, восьмой – четвёртую, седьмой – пятую, пятый – шестую, третий – седьмую, второй – восьмую по величине[6]. Круг самого большого вала – пёстрый, круг седьмого вала – самый яркий; круг восьмого заимствует свой цвет от света, испускаемого седьмым; круги второго и пятого валов близки друг к другу по цвету и более жёлтого, чем те, оттенка, третий же круг – самого белого цвета, четвёртый – красноватого, а шестой стоит на втором месте по белизне[7]. Всё веретено в целом, вращаясь, совершает всякий раз один и тот же оборот, но при его вращательном движении внутренние семь кругов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого. Из них всего быстрее движется восьмой круг, на втором месте по быстроте – седьмой, шестой и пятый, которые движутся с одинаковой скоростью; на третьем месте, как им было заметно, стоят вращательные обороты четвёртого круга; на четвёртом месте находится третий круг, а на пятом – второй. Вращается же это веретено на коленях Ананки[8]. Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними, каждая из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков – а их восемь – получается стройное созвучие[9]. Около Сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своём престоле, другие три существа – это Мойры, дочери Ананки: Лбхесис, Клоту и Бтропос; они – во всём белом, с венками на головах. В лад с голосами Сирен Лахесис воспевает прошлое, Клото – настоящее, Атропос – будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахесис поочерёдно касается рукой того и другого[10]. Так вот, чуть только они пришли туда, они сразу же должны были подойти к Лахесис. Некий прорицатель расставил их по порядку, затем взял с колен Лахесис жребии и образчики жизней, взошёл на высокий помост и сказал: – «Слово дочери Ананки, девы Лахесис. Однодневные души! Вот начало другого оборота, смертоносного для смертного рода. Не вас получит по жребию гений[11], а вы его себе изберёте сами. Чей жребий будет первым, тот первым пусть выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую. Добродетель не есть достояние кого-либо одного: почитая или не почитая её, каждый приобщится к ней больше либо меньше. Это – вина избирающего: бог невиновен». Сказав это, прорицатель бросил жребий в толпу, и каждый, кроме Эра, поднял тот жребий, который упал подле него: Эру же это не было дозволено. Всякому поднявшему стало ясно, какой он по счёту при жеребьевке. После этого прорицатель разложил перед ними на земле образчики жизней в количестве значительно большем, чем число присутствующих. Эти образчики были весьма различны – жизнь разных животных и все виды человеческой жизни. Среди них были даже тирании, пожизненные, либо приходящие в упадок посреди жизни и кончающиеся бедностью, изгнанием и нищетой. Были тут и жизни людей, прославившихся своей наружностью, красотой, силой либо в состязаниях, а также родовитостью и доблестью своих предков. Соответственно была здесь и жизнь людей неприметных, а также жизнь женщин. Но это не определяло душевного склада, потому что душа непременно изменится, стоит лишь избрать другой образ жизни. Впрочем, тут были вперемежку богатство и бедность, болезнь и здоровье, а также промежуточные состояния. Для человека, дорогой Главкон, вся опасность заключена как раз здесь, и потому следует по возможности заботиться, чтобы каждый из нас, оставив без внимания остальные познания, стал бы исследователем и учеником в области этого, если он будет в состоянии его откуда-либо почерпнуть. Следует отыскать и того, кто дал бы ему способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни, а из представляющихся возможностей всегда и везде выбирать лучшее. Учитывая, какое отношение к добродетельной жизни имеет всё то, о чём шла сейчас речь, и сопоставляя это все между собой, человек должен понимать, что такое красота, если она соединена с бедностью или богатством, и в сочетании с каким состоянием души она творит зло или благо, а также, что значит благородное или низкое происхождение, частная жизнь, государственные должности, мощь и слабость, восприимчивость и неспособность к учению. Природные свойства души в сочетании друг с другом и с некоторыми благоприобретенными качествами делают то, что из всех возможностей человек способен, считаясь с природой души, по размышлении произвести выбор: худшим он будет считать образ жизни, который ведёт к тому, что душа становится несправедливее, а лучшим, когда она делается справедливее; всё же остальное он оставит в стороне. Мы уже видели, что и при жизни, и после смерти это самый важный выбор для человека. В Аид надо отойти с этим твёрдым, как адамант, убеждением, чтобы и там тебя не ошеломило богатство и тому подобное зло и чтобы ты не стал тираном, такой и подобной ей деятельностью не причинил бы много непоправимого зла, и не испытал бы ещё большего зла сам. В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей – как, по возможности, в здешней, так и во всей последующей: в этом – высшее счастье для человека. Да и вестник из того мира передавал, что прорицатель сказал тогда вот что: «Даже для того, кто приступит последним к выбору, имеется здесь приятная жизнь, совсем не плохая, если произвести выбор с умом и жить строго. Кто выбирает вначале, не будь невнимательным, а кто в конце, не отчаивайся!» После этих слов прорицателя сразу же подошёл тот, кому достался первый жребий: он взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из‑за своего неразумия и ненасытности он произвёл выбор, не поразмыслив, а там таилась роковая для него участь – пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Когда он потом, не торопясь, поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой выбор, не посчитался с предупреждением прорицателя, винил в этих бедах не себя, а судьбу, божества – всё, что угодно, кроме себя самого. Между тем он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествовавшую жизнь при упорядоченном государственном строе; правда, эта его добродетель была всего лишь делом привычки, а не плодом философского размышления. Вообще говоря, немало тех, кто пришёл с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, кто приходил с земли, производили выбор, не торопясь: ведь они и сами испытали всякие трудности, да и видели их на примере других людей. Поэтому, а также из-за случайностей жеребьёвки для большинства душ наблюдается смена плохого и хорошего. Если же, приходя в здешнюю жизнь, человек здраво философствовал и при выборе ему выпал жребий не из последних, тогда, согласно вестям из того мира, он, скорее всего, будет счастлив не только здесь, но и путь его отсюда туда и обратно будет не подземным, тернистым, но ровным, небесным. Стоило взглянуть, рассказывал Эр, на это зрелище, как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни. Эр видел, как душа бывшего Орфея[12] выбрала жизнь лебедя: из‑за ненависти к женскому полу, так как от них он претерпел смерть, его душа не пожелала родиться от женщины. Он видел и душу Фамиры[13] – она выбрала жизнь соловья. Видел он и лебедя, который предпочёл выбрать жизнь человеческую; то же самое и другие мусические существа. Душа, имевшая двадцатый жребий, выбрала жизнь льва: это была душа Аякса, сына Теламона[14], – она избегала стать человеком, памятуя об истории с присуждением доспехов. После него шла душа Агамемнона[15]. Вследствие перенесённых страданий она тоже неприязненно относилась к человеческому роду и сменила свою жизнь на жизнь орла. Между тем выпал жребий душе Аталанты[16]: заметив, каким великим почётом пользуется победитель на состязаниях, она не могла устоять и выбрала себе эту участь. После неё он видел, как душа Эпея, сына Панопея[17], входила в природу женщины, искусной в ремёслах. Где-то далеко, среди самых последних, он увидел душу Ферсита[18], этого всеобщего посмешища: она облачалась в обезьяну. Случайно самой последней из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея[19]. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далёкого от дел; наконец, она насилу нашла её, где-то валявшуюся: все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть её увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий. Души разных зверей точно так же переходили в людей и друг в друга, несправедливые – в диких, а справедливые – в кротких; словом, происходили всевозможные смешения. Так вот, когда все души выбрали себе ту или иную жизнь, они в порядке жребия стали подходить к Лахесис. Какого кто избрал себе гения, того она с ним и посылает как стража жизни и исполнителя сделанного выбора. Прежде всего этот страж ведёт душу к Клото, под её руку и под кругообороты вращающегося веретена: этим он утверждает участь, какую кто себе выбрал по жребию. После прикосновения к Клото он ведёт душу к пряже Атропос, чем делает нити жизни уже неизменными. Отсюда душа, не оборачиваясь, идёт к престолу Ананки и сквозь него проникает. Когда и другие души проходят его насквозь, они все вместе в жару и страшный зной отправляются на равнину Леты[20], где нет ни деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются у реки Амелет[21], вода которой не может удержаться ни в каком сосуде. В меру все должны были выпить этой воды, но, кто не соблюдал благоразумия, те пили без меры, а кто её пьёт таким образом, тот всё забывает. Когда они легли спать, то в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх в разные стороны, к местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как звёзды. Эру же не было дозволено испить этой воды. Он не знает, где и каким образом душа его вернулась в тело[22]. Внезапно очнувшись на рассвете, он увидел себя на костре. Заключение: призыв соблюдать справедливость. Таким-то вот образом, Главкон, сказание это спаслось, а не погибло. Оно и нас спасёт; если мы поверим ему, тогда мы и через Лету легко перейдём и души своей не оскверним. Но в убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все – если вы мне поверите – всегда будем держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьями самим себе и богам. А раз мы заслужим себе награду, словно победители на состязаниях, отовсюду собирающие дары, то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо[23]. Перевод А.Н.Егунова. ________________ [1] Рассказ Одиссея о его странствиях на пиру у царя Алкиноя (Гомер. Од. IX–XII) длился в течение трёх дней. Имя памфилийца Эра трактуется различно. В лексиконе Суды (v. кr) это «собственное еврейское имя». В Евангелии от Луки (3, 28) Эр – предок Иосифа‑плотника. Климент Александрийский отождествляет его с Зороастром, сыном Армения, памфилийцем (Stromat. V, гл. XIV, 103, 2‑4, St‑Frucht). [2] О загробном пребывании Эра рассказывает также Плутарх, называя, правда, его сыном Гармония (Quaest. Conv. X 740). Подобные рассказы встречаются у Оригена как аргументация воскресения Христа перед неверующими (Contr. Gels. II 16), а также у Макробия (Somn. Scip. I 1, 9 Will.). [3] Две расселины, или два «устья» (см. 615d), упоминаются у Плутарха в рассказе о круговороте душ, оплакивающих свой жребий (De genio Socrat. 591с), и у Порфирия (De antro nymph. 29, 31). pic 1 Рис. 1. [4] Ср. судьбу грешников в аду Данте («Божественная комедия»), где черти бросают их вилами в кипящую смолу («Ад», п. 21 ‑ 22). [5] Световая сфера связует землю и небо наподобие обшивки корабля и пронизывает небо и землю насквозь в виде светящегося столпа в направлении мировой оси, концы которой совпадают с полюсами (см. рис. 1). [6] Веретено Ананки (Необходимости) находится в центре светящегося столпа и привязано к концам небесных связей, причём ось веретена есть не что иное, как мировая ось, а вал (или «пятка») устроен наподобие полушария или усечённого конуса, включающего в себя семь других полушарий, образующих с первым восемь небесных сфер (см. рис. 2 и 2а). Ананка вращает это веретено между своими коленями. Восемь небесных (или планетных) сфер имеют различную величину поверхностей, образующих определённую пропорцию. Первая, внешняя, сфера, заключающая в себе все остальные, – самая большая и является небом неподвижных звёзд (см. также прим. 48 к диалогу «Тимей» и рис. 1). pic 2 Рис. 2. Античное веретено, которому соответствует форма веретена Ананки. АВ – ось веретена; С – вал. [7] Цвета сфер соответствуют цвету самих планет. Сфера неподвижных звёзд самая пёстрая, так как передаётся всеми оттенками составляющих её светил, седьмая сфера – солнечная – самая яркая, восьмая – Луна и Земля – сияет отражённым светом Солнца; вторая – Сатурн – и пятая – Меркурий – золотисто‑желтоваты; третья – Юпитер – раскалена до белизны, четвёртая – Марс – пылает красным цветом; шестая – Венера – яркой белизны. Подробности см. в прим. 52 к диалогу «Тимей», где даются объяснения цветовой значимости планет. [8] О вращении небесных сфер см. «Тимей», 38b‑с. [9] Интервалы между восемью сферами составляют октаву, или гармонию, так что весь платоновский космос звучит, как хорошо настроенный инструмент, тем более, что на каждой сфере сидит сирена и поёт в определённой тональности. См. также «Тимей», прим. 48. [10] О Необходимости – Ананке – и её ипостасях, а также о трёх Мойрах см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий» (стр. 575). Имена этих вершительниц судьбы человека означают: Лахесис – «дающая жребий» (lagchano – «получать по жребию»); Клото – «пряха», «прядущая нить человеческого жребия» (clotho – «прясть»); Атропос – «неизменная», «неколебимая» (букв.: «та, которая не поворачивает назад»). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 21-12-2009 12:47 |
|
Таким образом, первая Мойра вынимает жребий для человека в прошлом, вторая прядёт его настоящую жизнь, а третья неотвратимо приближает будущее. Соответственно, Клото – настоящее – ведает внешним кругом неподвижных звёзд; Атропос – будущее – ведает подвижными планетами внутренних сфер; Лахесис, как определяющая жребий, объединяет оба типа движения. pic 2a Рис. 2а. Вид веретена Ананки сверху. Римские цифры обозначают порядок сфер. Арабские – соотношение их поверхностей. [11] Здесь речь идёт о гении («демоне») человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении, направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, «то светлым, то мрачным» (Epist. II 2, 187–189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о «демоне рождения» и борьбе в человек двух демонов – доброго и злого (Pyth. Ill 34). Ср. «Федон» (107d) – о гении, или «демоне», достающемся человеку при жизни и сопутствующем ему в смерти. Важно отметить мысль Платона о выборе гения самим человеком, что свидетельствует о свободе воли. См. также А.Ф.Лосев . Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 55–60. [12] Орфей – см. выше, прим. 16 к кн. II. [13] Фамира – см. т. 1, прим. 11 к диалогу «Ион». [14] После гибели Ахилла его оружие присудили не храбрейшему греку Аяксу, сыну Теламона, а «хитроумному» Одиссею. Этому сюжету посвящена трагедия Софокла «Аякс‑биченосец». [15] Агамемнон – см. т. 1, прим. 20 к диалогу «Кратил». [16] Аталанта. – дочь Иаситна и Климены – дева‑охотница из Аркадии, участвовавшая в Калидонской охоте и получившая из рук Мелеагра голову убитого вепря. [17] Эпей – см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Ион». [18] Ферсит – см. т. 1, прим. 89 к диалогу «Горгий». [19] Одиссей – см. т. 1, прим. 54 к «Апологии Сократа». [20] Лета – река забвения в царстве мёртвых, испив которую, души умерших забывали свою земную жизнь. О «долине Леты» упоминает Аристофан (Ran. 186). [21] Река Амелет – т.e. «уносящая заботы», «беззаботная». Ср. у Вергилия (Аеп. VI 714 сл.), где души умерших «у волн реки Леты пьют беззаботные струи и долгое забвение», т.e. Лета и Амелет здесь отождествляются, так как забвение даёт полное отсутствие заботы. В этих образах Леты и реки Амелет есть отзвуки преданий о воде Мнемосины, т.e. памяти, с одной стороны, и Леты, т.e. забвения, с другой. Павсаний пишет о прорицалище Трофония в Лебадее, где паломник пьёт сначала воду из источника Леты, чтоб забыть о заботах и волнениях, а затем из источника памяти, чтобы запомнить всё, что он видел в пещере Трофония (IX 39, 8). О реках Аида см. «Федон», 113а‑d. [22] История загробного существования души, ее странствий и перевоплощений подробно освещена с учетом других сочинений Платона в т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий». [23] Сократ призывает своих собеседников стремиться вверх, т.e. восходить к высшему благу (см. также т. 2, «Федр», 256b‑257а и прим. 40, 41 к тому же диалогу). |
|
|
Tusik Кандидат Группа: Участники Сообщений: 1488 
|
Добавлено: 25-02-2010 17:07 |
| Иду из магазина, на лавочке сидит мужик, пьёт пиво. Рядом бегает чихуахуа, мелкий и всех облаевает. Мужик- Х@ли ты лаешь то? Тебе вчера коты п@зды дали, еще получишь! Пасть закрой! | |
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 22-04-2010 18:48 |
|
Франц Кафка 19 ноября. Воскресенье. Сон: В театре. Постановка «Далекой страны» Шницлера в обработке Утица1. Я сижу совсем близко к сцене, мне кажется, что в первом ряду, пока не оказывается, что во втором. Спинка сиденья повернута к сцене, так что удобно смотреть в зрительный зал, сцену же можно видеть, лишь повернувшись. Автор где-то поблизости, я не могу скрыть от него своего плохого мнения о пьесе, которую я, видимо, уже знаю, но зато добавляю, что третий акт должен быть остроумным. Этим «должен быть» я хочу сказать, что, если говорить об удачных местах, я пьесы не знаю и полагаюсь на слышанное мнение; это замечание я повторяю дважды не только для себя, но окружающие не обращают на него внимания. Вокруг меня большая толпа, все словно одеты по-зимнему и потому занимают слишком много места. Люди около меня, позади меня, люди, которых я не вижу, заговаривают со мной, указывают мне на вновь приходящих, называют имена, особенно обращают мое внимание на какую-то протискивающуюся через ряды кресел супружескую пару, потому что у женщины темно-желтое, мужское, длинноносое лицо, и, кроме того, насколько можно увидеть в толпе, над которой возвышается ее голова, она одета в мужской костюм; рядом со мной удивительно непринужденно стоит актер Леви, очень непохожий на реального, и произносит взволнованные речи, в которых повторяется слово «principium», я все жду выражения «tertium comparationis» *, но его нет. В ложе второго яруса, собственно в углу галереи, справа от сцены, которая там примыкает к ложам, стоит позади своей сидящей матери какой-то третий сын семьи Киш и говорит что-то, обращаясь к залу; на нем красивый сюртук с развевающимися полами. Слова Леви имеют какое-то отношение к этим его словам. Посреди речи Киш показывает на верх занавеса и говорит, что там сидит немецкий Киш2, подразумевая моего школьного товарища, изучавшего германистику. -------------------------------------------------------------------------------- * Третье в сравнении Когда занавес поднимается, в зале становится темно и Киш так или иначе должен исчезнуть, он вместе с матерью проносится, чтобы привлечь большее внимание, вверх по галерее, широко раскинув руки и ноги, в развевающейся одежде. Сцена расположена несколько ниже зрительного зала, на нее приходится смотреть вниз, упираясь подбородком в спинки сидений. Декорации сводятся к двум низким толстым колоннам посреди сцены. Изображается пир, в котором участвуют девушки и молодые люди. Мне мало что видно, потому что, хотя с началом представления многие из первого ряда ушли, по-видимому за сцену, оставшиеся девушки двигаются на своих местах и их большие, плоские, большей частью голубые шляпы закрывают мне сцену. Но одного невысокого мальчика лет десяти-пятнадцати я вижу на сцене очень отчетливо. У него сухие, разделенные пробором, ровно подрезанные волосы. Он не умеет даже правильно расстелить салфетку на коленях и вынужден поэтому внимательно смотреть вниз; ему приходится изображать в пьесе прожигателя жизни. Это наблюдение мешает мне испытывать особое доверие к спектаклю. Общество на сцене поджидает новых гостей, спускающихся из первых рядов зрительного зала на сцену. Но пьеса плохо разучена. Вот появляется актриса Хакельберг, другой актер, светски-небрежно откинувшись в кресле, называет ее «Хакель», замечает свою ошибку и поправляется. Входит девушка, которую я знаю (мне кажется, ее зовут Франкель), она перелезает как раз на моем месте через ряд; когда она перелезает, видна ее спина, совершенно обнаженная, кожа не очень чистая, на правом бедре расчесанное до крови место величиной с кнопку дверного звонка. Но, оказавшись на сцене и повернув к залу чистое лицо, она играет очень хорошо. Теперь должен издалека галопом прискакать на коне певец, рояль передает стук копыт, слышится приближающееся бурное пение, наконец я вижу и певца, который, чтобы передать естественное нарастание звука при стремительном приближении, бежит вдоль верхней галереи на сцену. Он еще не достиг сцены, еще и песня не окончена, и все же он выразил всю крайнюю спешку и громкость пения, даже рояль не может уже передать более отчетливо звук цокающих по камням копыт. Поэтому оба затихают, и певец вступает на сцену, он поет спокойно, только старается так согнуться, чтобы его не было ясно видно, — лишь голова торчит над перилами галереи. На этом кончается первый акт, но занавес не опускается, в зале по-прежнему темно. На полу сцены сидят два критика и пишут, прислонившись спиной к декорации. Заведующий литературной частью или режиссер с белокурой эспаньолкой впрыгивает на сцену, на лету он повелительно вытягивает одну руку, в другой руке он держит гроздь винограда, прежде лежавшую в вазе с фруктами на пиршественном столе, и ест этот виноград. Снова повернувшись к зрительному залу, я вижу, что он освещен простыми керосиновыми лампами, которые укреплены, как на уличных фонарях, и теперь, конечно, совсем слабо горят. Вдруг — может быть, из-за плохого керосина или фитиля — из одного фонаря выбивается пламя и сноп искр падает на зрителей, которые неразличимы для глаза и сливаются в черную, как земля, массу. И вот из этой массы поднимается человек, прямо по ней идет к фонарю, вероятно чтобы привести все в порядок, но сначала смотрит вверх, на фонарь, на мгновение останавливается возле него и, так как ничего не происходит, спокойно возвращается на свое место и исчезает. Я путаю себя с ним и погружаю лицо в черноту. Я и Макс, должно быть, в корне различны. Как ни восхищаюсь я его сочинениями, когда они лежат передо мною как нечто целое, недоступное моему или чьему-либо другому вмешательству, и даже вот сегодня эти небольшие рецензии на книги, — тем не менее каждая фраза, которую он пишет для «Рихарда и Самуэля», заставляет меня идти на уступки, которые я болезненно ощущаю всем своим существом. По крайней мере сегодня. Сегодня вечером я снова был полон боязливо сдерживаемых способностей. 20 ноября. Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют, потому что всегда лежат на поверхности; если они и были неосознанными, то лишь малого недоставало для осознания их. Они, правда, создают ощущение основательности, полноты, непрерывности мысли, но это подобно фигуре в вертящемся колесе; мы гоняем по кругу свою незначительную мысль. Они кажутся разными, но лишены нюансов; они набухают, словно от воды, под рукой, первоначально они сулят проникновение в бесконечность, а сводятся к одним и тем же неизменным средним величинам. Они замыкаются на самих себе, их нельзя развить, они указывают отправную точку, но это всего лишь пустоты, стремительный бег на месте, они тянут за собой, как я показал, новые антитезы. Пусть же они и притянут их все к себе, раз и навсегда. 21 ноября. Моя бывшая няня, смугло-желтая лицом, с резко очерченным носом и столь милой мне некогда бородавкой на щеке, сегодня пришла к нам второй раз подряд, чтобы повидать меня. Первый раз меня не было дома, нынче же я хотел, чтобы меня оставили в покое и дали поспать, я просил сказать, что меня нет дома. Почему она так плохо воспитала меня, я ведь был послушным, она сама сейчас говорит об этом в передней кухарке и горничной, у меня был спокойный и покладистый нрав. Почему она не употребила этого мне на благо и не уготовила мне лучшего будущего? Она замужем или вдова, имеет детей, у нее живой язык, xcv не дающий мне заснуть, она уверена, что я высокий, здоровый господин в прекрасном возрасте — двадцати восьми лет, охотно вспоминаю свою юность и вообще знаю, что с собой делать. А я лежу здесь на диване, одним пинком вышвырнутый из мира, подстерегаю сон, который не хочет прийти, а если придет, то лишь коснется меня, мои суставы болят от усталости, мое худое тело изматывает дрожь волнений, смысл которых оно не смеет ясно осознать, в висках стучит. А тут у моей двери стоят три женщины, одна хвалит меня, каким я был, две — какой я есть. Кухарка говорит, что я сразу — она имеет в виду прямиком, без обходных путей — попаду в рай. Так оно и будет. 22 ноября. Бесспорно, что главным препятствием к успеху является мое физическое состояние. С таким телом ничего не добьешься. Я должен буду свыкнуться с его постоянной несостоятельностью. Последние ночи, полные кошмарных сновидений, но длящегося лишь минуты сна, меня сегодня утром настолько выбили из колеи, что, кроме лба своего, я ничего не ощущал, мое нынешнее состояние настолько далеко от хоть сколько-нибудь выносимого, что из одной лишь готовности к смерти я охотно свернулся бы в клубок с деловыми бумагами в руках на цементном полу коридора. Мое тело слишком длинно и слабо, в нем нет ни капли жира для создания благословенного тепла, для сохранения внутреннего огня, нет жира, которым мог бы иной раз подкрепиться измотанный потребностями дня дух, не причиняя вреда целому. Как может это слабое сердце, так часто болевшее в последнее время, гнать кровь через всю длину этих ног. Только до колен — и то ему хватило бы работы, а в холодные голени кровь толкается уже только со старческой силой. Но вот она уже опять необходима наверху, ее ждешь, в то время как она растрачивается попусту внизу. Из-за длины тела все растянуто. Что уже оно может сделать, это тело, если, будь оно даже и более плотно сбито, в нем слишком мало сил для того, чего я хочу достичь. 23 ноября, 21-го, в день сотой годовщины смерти Клейста, семья Клейста возложила на его могилу венок с надписью: «Лучшему из нашего рода». 1 Шницлер Артур (1862-1931) — австрийский драматург, прозаик и поэт. Утиц Эмиль (1883-1956) — гимназический соученик Кафки, впоследствии философ. 2 Киш Пауль — соученик Кафки, брат чешско-немецкого писателя-публициста Эгона Эрвина Киша (1885-1948). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 30-06-2010 11:29 |
|
Что делает мужчину мужчиной? 24 июня 2010 УМЕНИЕ НЕ ТРУСИТЬ Ксения Соколова для журнала GQ Недавно в Хамовническом суде города Москвы я имела редкое удовольствие воочию наблюдать, чем отличается понятие «мужчина» от понятия «унылое говно». В Hamovnitchesky Court — так именуется храм правосудия в отчетах иностранных корреспондентов — судят г-д Ходорковского и Лебедева которые, как известно, украли у нас святое — бабки и нефть. Если процесс пойдет по плану и гособвинители — один лох и две лохушки, старшая из которых все время спит, — получат то, чего требуют, г-да Ходорковский и Лебедев отправятся из города Москвы восвояси — иными словами, на нары еще лет на двадцать. Громкий процесс — в полном соответствии с трендом — проходит в жанре цирка шапито. Те же на манеже — судья с древнерусской тоской в глазах, прокуроры с дефективной речью, очень юная секретарь в секси-джинсах с Черкизона и каком-то люрексе. «Русская народная кафка» эстетически настолько невыносима, что хочется бежать. И почему-то мучительно неловко смотреть на двоих в стеклянной клетке, ради кого затеяно дорогостоящее — во всех смыслах — представление. Мне приходилось слышать о том, что эти ребята — Ходорковский с Лебедевым на процессе ведут себя не просто достойно, а так, словно у каждого из них в запасе по девять жизней, одну из которых не жаль провести, снисходительно наблюдая за нелепой активностью душевнобольных. Тем не менее мы знаем, что жизнь — одна. Но мы не знаем — можем только предполагать — какое сверхусилие необходимо, чтобы не сломаться после шести лет зоны, ясно осознавая перспективу остаться в тюрьме пожизненно, чтобы не поверить, не попросить, не пойти на сделку, наконец, чтобы просто спокойно, стоять, покачиваясь с пятки на носок, улыбаясь из-за прутьев решетки. Читая об этом в книгах диссидентов, я, как всякий человек с чрезмерно живым воображением, примеряла ситуацию на себя и приходила к выводу — в реальности так не бывает. Даже обладая недюжинной силой духа, очень трудно победить тоску, отчаяние, страх бессмысленных страданий, изоляции, унылой, медленной смерти. Можно талантливо сыграть равнодушие к своей участи — но не более. Во все времена на это рассчитывали строители авторитарных систем — и их расчеты по большей части оправдывались. Наша эпоха и наша страна — лучшее доказательство этого утверждения. Террор остался в прошлом — уже давно никто никого не хватает, не тащит в «воронок» и не расстреливает в подвале. Угроза жизни съежилась до угрозы потери денег. И тем не менее страх разлит повсюду, словно парализующий яд. Из тех, кому есть, что терять, — людей, как правило, не бедных и не слабых, — за последние годы не нашлось буквально (!) никого, кто рискнул бы пойти против навязанных правил или предпочел крупным деньгам возможность сохранить достоинство. Этот феномен коллективной трусости, покорности и легкости выбора между честью и бесчестием в пользу последнего, меня всегда крайне интересовал. Чтобы узнать о нем больше, я и отправилась в Хамовнический суд. Я не сбежала из крашенного в желтое зала судебных заседаний — хотя, поверьте, очень хотелось. Щеки горели от стыда, как бывает, когда становишься невольным свидетелем какой-то мерзкой мерзости, которую ты не в силах остановить. Чтобы отвлечься от мыслей, я старалась внимательно рассмотреть людей за решеткой. В этот день Михаил Ходорковский давал показания. Он очень подробно комментировал обвинительное заключение — каждый пункт. Линия защиты была выбрана остроумно — по неписаным условиям этой игры прокуроры выдали на-гора несколько десятков томов чуши, и, разумеется, никто не ожидал, что эту чушь кто-то будет всерьез анализировать. Тем не менее обвиняемый — человек без чувства юмора — сделал именно так. И не ошибся — плоды коллективного творчества душевнобольных неловко было слышать даже судье. Но меня интересовало не столько содержание, сколько форма подачи. Ходорковский хорошо выглядел. Я не имею в виду цвет лица — в читинской зоне не наживешь бронзового загара. Но все остальное было cool — МБХ был подтянут, чисто выбрит, аккуратно одет. Говорил негромко, размеренно, подчеркнуто вежливо. К судье обращался «ваша честь». Приводил образные аналогии, держал зал, как хороший оратор. Сидящий рядом Платон Лебедев слушал речь товарища так, словно дело происходило не в помойных Хамовниках, а, например, в залитом солнцем пент-хаусе на Уолл-стрит. Положив ногу на ногу и слегка прикрыв глаза, г-н Лебедев сидел в свободной, расслабленной позе, иногда что-то черкал на листке бумаги. Встретившись взглядом с кем-то знакомым, он весело улыбнулся и показал язык. Я ела глазами клетку с людьми, запертую на цепь, и не могла понять, что не так. Глаз фиксировал нечто странное, сбой в картинке, базовое нарушение на уровне инстинкта. Сидящие в клетке вели себя, говорили и двигались, как свободные люди. Это не было бравадой — старые зэки знают, что шесть лет тюрьмы и зоны накладывают несмываемый, как чернильная татуировка, отпечаток — можно отрепетировать речь, но пластика выдаст сидельца. Удивительным образом эти двое демонстрировали то, что моя бабушка называла безукоризненностью манер. И эта безукоризненность была убийственной. Она не оставляла Хамовническому суду ни малейшего шанса. Клетка уже не казалась клеткой: стены из стекла и металла обозначили границу, четко разделившую Людей и чавкающую, не имеющую предела и дна антропологическую парашу. Возвращаясь домой, я слегка попортила красные туфельки Dior, прыгая через лужи. Мне было весело. Я чувствовала себя словно замшелый дед, которого ради шутки привели в стрип-клуб — и там он вдруг испытал ТАКОЕ, за что не задумываясь отдал бы инвалидную пенсию за всю жизнь и саму эту жизнь в придачу. Прошу простить кощунственное сравнение, но сексуальные аналогии возникли не случайно. Наблюдая за фарсом в зале Хамовнического суда, я вдруг четко и ясно поняла смысл слова «мужчина». А теперь дорогие читатели, слушайте и запоминайте как «Отче наш». В глазах женщины мужчину делает мужчиной единственное качество — умение не обосраться. Не струсить. Не покориться. Не приспустить услужливо штанцы. Остальное: размер члена, детородная функция и даже «наше все» — бабки -факультативно. То есть если при бабках и обосрался — по факту все равно говно. Мне возразят — это «гамбургский счет» и он не для всех, нельзя требовать героического поведения от обычных людей, нельзя навязывать свои перфекционистские установки. Увы, друзья, ничем не могу помочь. Я — женщина, я была в Хамовническом суде и наблюдала то, про что поэт Бродский написал: «Зачем нам рыба, раз есть икра?» Чтобы не утомлять вас занудными рассуждениями о достоинстве и чести, скажу просто — лучшие девочки никогда не давали трусам. Даже если смелых три с половиной калеки, и те на Темзе или в тюрьме, а трусов — сколько угодно, и у всех ресурс, яхты и замчата на Лазурке. Но спать-то в итоге приходится не с ресурсом, а с мужчиной. И никакие простыни Frette с лавандовой отдушкой не спасут, если от мужчины воняет парашей. Спустя пару дней после описанного визита в суд я имела беседу с поклонником, занимающим видный государственный пост. За ланчем солидный мужчина рассказал, что его… как бы половчее выразиться… идеологический наставник предостерегал его от общения с журналисткой много себе позволяющего издания. Это называлось «потенциальные репу-тационные потери». Выслушав рассказ, я спросила: «И что ты сделал? Дал NN по морде? Публично послал его на х…?» Мой визави страшно оскорбился — он находил верхом смелости то, что после услышанного в высоком кабинете он вообще здесь сейчас сидит. Больше не сидит. Или вот еще. Есть в нашем городе миллиардер — спортсмен, комсомолец, лидер списка Forbes. Однажды сотрудник миллиардера, его правая рука, изрядно перебрав, рассказал мне следующее. Как и все суверенные миллиардеры, его босс дружен с Кремлем — в последнее время особенно. Иногда люди из Кремля ему звонят. По словам помощника, всякий раз во время такого звонка миллиардер, — а он очень высокого роста, — медленно поднимается с офисного кресла и застывает в «позе открытости», сгорбив спину и втянув в плечи голову. Так, на полусогнутых, обладатель одного из крупнейших в мире состояний и стоит, пока с ним не закончат разговор. Замечу, что «позу открытости» в исполнении мужчины находят особенно сексуальной на зоне. Где миллиардер, судя по всему, несомненно очень скоро занял бы подобающее место. Может показаться, что эти заметки имеют провокационно политический характер. На самом деле претензия к отцам-основателям суверенной демократии у меня только одна. И не журналистская — в защиту режима могу сказать, что выражать свои крамольные мысли мне никто никогда не мешал, — а сугубо дамская. Господа разведчики и члены кооператива «Озеро»! Своими усилиями вы создали идеальные условия для поголовного превращения мужской элиты страны в трусливое говнобыдло. С точки зрения национальных перспектив — это завершение генетической и уже даже, пожалуй, антропологической катастрофы. С точки зрения женщины, это просто чудовищно скучно. С вами очень скучно, понимаете, господа?! А в Хамовническом суде у меня все же не получилось без скандала. Когда судья объявил перерыв в заседании, я вышла в коридор и наткнулась на двух скучающих охранников в черной форме — тех, которые конвоировали Ходорковского и Лебедева в зал. Я услышала, как один охранник, зевая, спросил другого: «Ну что там, долго еще?» «Да не знаю, — ответил второй. - Этот уже два часа как гундосит. Опять без обеда останемся». Я медленно пересекла коридорчик и, подойдя вплотную к недоевшему охраннику, тихо, но назидательно сказала: «Это ты гундосишь, перхоть. А ЧЕЛОВЕК говорит». Я медленно пересекла коридорчик и, подойдя вплотную к недоевшему охраннику, тихо, но назидательно сказала: «Это ты гундосишь, перхоть. А ЧЕЛОВЕК говорит». |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 05-07-2010 13:34 |
|
Н.К.Рерих ПРОДАЖА ДУШ Сколько бедствий! Со всех концов пишут о разрушениях, об утеснениях и о всяких человеческих несчастьях. Через все эти темные стекла вы можете разглядеть еще одну беду, которая не произносится. Пожалуй, слово о ней будет сочтено бестактным и неуместным в наш век великих цивилизаций! Хорошо, еще если при этом можно не сказать: "в наш век культуры"! Под разными, иногда очень пышными наименованиями, творится злое дело, позорное для человечества. Говорят очень выспренне об изменении границ, о всяких присоединениях; кто-то не удержится, чтобы не произнести слово "аннексия"... Среди всех этих прилично причесанных собеседований никто не решится вспомнить о том, что беззастенчиво происходит продажа душ человеческих. Сейчас никто не говорит о войне. Вместо войны придумано новое бесстыдное определение – замирение. Таким образом, прекрасное слово мир включается в понятие лицемерия, ханжества и лукавства. При этом все знают, что от изменения границ, от аннексий, от агрессий и всяких "замирений" происходит неприкрытая продажа душ человеческих. Представим себе глубокую трагедию мирного жителя, которому "по щучьему велению" вдруг говорят, что он сделался другою народностью, что он должен отказаться от предков, от всего обихода и ради спасения головы своей должен спешно приобрести чужой несвойственный ему строй жизни. Ему скажут, что он ради чьих-то соображений перестал быть самим собою и продан вместе со многими другими вещами какому-то пришлому завоевателю. Могут сказать, что завоевания происходили испокон веков, и это зло неизбежно. Но в то же время будут называть прошлые века варварством, а теперь будут кичиться какою-то цивилизацией и даже будто бы культурою. Все скажут, что прежде были нравы дикие, но теперь под влиянием гуманистической философии природа человеческая утончилась, и уже невозможными стали грубые убийственные преступления. Неправда ли, ведь и такое притворство можно нередко сейчас услышать? Люди будут гордиться не ими сделанными открытиями и научными достижениями и, как обезьяны, превратят эти сокровища в средства убийства, поношения и рабства. Полетели люди, но куда же они долетают? Что же несут их летательные машины и для чего сейчас строятся огромнейшие количества аэропланов? Может быть, только в образовательных и познавательных целях? Может быть, все эти машины спешно настроены не для корыстий и убийства, но для самых человечных целей? Сделалось уже лживым предположение, что крыльями овладело человечество для добра и взаимодоброжелательства. Именно для убийства идут спешные работы повсюду. Для усиления мучений изобретаются всевозможные ядовитые газы, бомбы и такие орудия, которые скоро могут стрелять вокруг света. Вот до чего дожили! Лицемеры скажут: о ком говорите? о каких-то дикарях? Вот тут-то лицемеры и выдали себя, проговорились. Во-первых, что значит дикарь? По невежеству даже очень культурные мысли иногда называются дикарством и неприложимыми к жизни. Вспомните, милые лицемеры, кого вы подчас называли дикарями и перед кем вы кичились вашими крахмальными воротничками. На каких таких весах будете вы взвешивать вашу душу и душу так называемого вами дикаря? Но если бы и нашлись такие весы, то вдруг они покажут совсем не то, о чем вы предполагали? Итак, прикрывшись разными лукавыми измышлениями, вы занялись продажею душ человеческих. Вы говорите им, этим бедным проданным душам: вчера ты был одним, а сегодня, по нашей указке, ты станешь иным. Вы даже не спросите у проданного в душевное рабство о его желаниях или убеждениях. Вы будете настоящими рабовладельцами не только в удаленных странах, но и среди самых, по-вашему, цивилизованных материков. Вот до чего дожили! Но, может быть, мы преувеличиваем. Может быть, продажа душ уже принадлежит к прошлому? И все человечество мощно и сплоченно уже заявило о неповторимости бывших угнетений и рабовладельчества? Нет, человечество не только не заявило свой властный запрет насилию, оно в лучшем случае промолчало, а в худшем нашло лицемерно научные объяснения своим нашествиям. При каждом уличном несчастье одни трусливо разбегаются, другие холодно любопытствуют и лишь очень немногие, лишь единичные спешат на помощь. Вот мы видим продолжающиеся разрушения неповторимых сокровищ, вот мы видим ужас убийств и мучительные многотысячные избиения, а люди безмолвствуют. Газеты в страхе не принимают статей о мире и говорят, что во время агрессии даже неприлично возражать. Будто бы каждое возражение может кого-то рассердить и тогда проданным душам будет еще хуже. Крылья, крылья, не рано ли овладело вами человечество и не принесли ли вы вместо просвещения позор и насилие? Против рабства написано много трогательных, прекрасных книг. Если бы в каком-либо собрании спросить присутствующих подтвердить вставанием, кто за рабство, то, наверное, никто не встанет. Даже те, которые в данную минуту деятельно участвовали в продаже душ, и те промолчат, опустив глаза, - настолько постыдно понятие рабства. Но не хуже ли открытого рабства тайная продажа душ - игра черепами человеческими? Многие тысячи обществ посвящены вопросу о мире. Может быть, среди членов этих обществ имеются и владельцы оружейных заводов. Может быть, кое-кто из этих членов, громко говоря о мире и благоволении на земле, в то же время не прочь подписать постыдную продажу душ. Кто-то острым ногтем или когтем проводит по карте новые границы, точно бы по безлюдным пространствам. Но души-то, души-то человеческие тоже рассекаются этим ногтем, и презирается цена Души человеческой. Ради какого же лучшего будущего совершаются все самоотверженные подвиги и научные открытия? Во всяком случае, не для будущего рабовладельчества. Говорится об эволюции, о просвещении, о новой жизни. Но ведь нельзя же подойти к этой новой жизни, неся купчую крепость о продаже душ человеческих. Продаются и старики, продаются возмужалые работники, наконец, продаются и дети. Это будущее поколение уже понимает, что над ним было совершено насилие. Молодое поколение в своих анналах передаст и впредь о тех ужасах, которым они были свидетелями. Детское сердце и детское воображение вмещают многое. Вот до чего дожили! Лицемерно совершаются продажи душ человеческих. Какое бедствие! Февраля 1939 г. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 05-07-2010 13:36 |
|
Письма Е.И.Рерих Письмо от 27 августа 1938 г. Родные наши Рихард Яковлевич и Гаральд Феликсович, посылаю Вам по Указанию Великого Владыки Беседу о радости бытия, которая так близка сердцу моему. «Вы знаете, насколько существенна радость бытия. Она не только лучшее целебное средство, но и прекрасный пособник Общения с Нами. Откуда же возникает это бодрое чувство, которое зовем радостью бытия? Почему такая радость не обусловлена богатством или самодовольством? Она может возникать среди самых тяжких трудностей и гонений. Среди напряжений такая радость особенно ценна и целительна. Мы называем ее радостью бытия, ибо она не зависит от личных обстоятельств, от удач и выгод. Она проявляется как предвестница наивысших токов, которые одухотворяют всю окружающую атмосферу, иначе не будет причины к такой радости. Можно ли ожидать радость среди болезни, среди несправедливости, среди оскорблений? Но и в таких обстоятельствах иногда могут загореться глаза, может подняться поникшая голова и нахлынуть новые силы. Человек начнет радоваться жизни, может быть, не своей земной жизни, но реальному Бытию. Какие сильные мысли придут к человеку, который восчувствовал радость бытия! Около него очистится атмосфера, и даже окружающие почувствуют облегчение, и Мы улыбнемся издалека и одобрим улучшенный провод. Мы даже будем признательны, ибо каждая бережливость энергии уже есть благо. Каждый, кто намеревается преуспеть, должен помнить о радости бытия. Каждый, кто хочет приобщиться к лучшим токам, пусть помнит, каким путем он приблизится к Нам. Не нужно выдумывать особо научные причины к такой радости, она приходит через сердце, но останется вполне реальной. Среди нее и зовы скорее донесутся. Мыслитель иногда собирал учеников на беседу, которую называл "пиром радости", тогда подавались лишь ключевая вода и хлеб. Мыслитель говорил: "Не запятнаем радость вином и роскошью пищи, радость превыше всего"». Да, радость бытия – превыше всего. Как эти слова отзвучат в моем сердце! Ведь эта радость есть радость исполняемого земного подвига или порученного задания. Радость эта таится в глубинах существа нашего и ярко возгорается, когда тяжкие обстоятельства и жестокие несправедливости натягивают все струны сердца. В таком напряжении мы можем приобщиться к мощному звучанию сердец Великих Братьев, прошедших многовековые и тягчайшие земные пути. Именно, каждый служащий общему благу в особо тяжкую минуту своего земного прохождения озаряется сознанием высшей радости исполняемого долга, и перед завершением радость эта сливается в торжественный аккорд великой радости бытия, который звучит во Вселенной поверх всех преходящих проявлений. Каждый жизненный подвиг на благо человечества безмерно усиляет мощь радости бытия. Приобщимся же к этой чистой и высшей радости. Она порождает и ту торжественность, которая так повышает всю атмосферу в окружении нашем. Знаю, родные, что Беседа эта близка духу Вашему и Вы оцените все значение ее. Прочтите ее друзьям и последователям Учения Живой Этики. Пусть сердца их зазвучат на эту великую реальность бытия. От всего сердца шлю Вам лучше посылки. Бодро и мужественно переживем трудное время, зная, что все происходящее не может изменить конечного решения Благих Сил. Приведу еще одну Беседу, которая как бы дополняет первую: «Вы знаете, что герои и мученики слагают народ. Что же в этом нового, когда Пифагор и гораздо раньше его уже знали такую истину? Но все истины должны быть пересмотрены перед ликом науки – так говорят ученые, и они правы. Что же представляют собою герои и мученики? В смысле энергетическом они составляют как бы живые вулканы, извергающие напряженные энергии. Действительно, такие напряжения необходимы для эволюции. Таким образом, мы снова приходим к сочетанию этики с биологией. Учение Новой Жизни показывает, что энтузиазм и есть благословенное напряжение. Люди не могут быть без этих ведущих вспышек. Если в Космосе взрывы будут созидательными импульсами, то и взрывы человеческие также нужны для эволюции. Многие называют героев и мучеников фанатиками, но не любим это определение, оно лишь затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, истинный герой знает учение самоотвержения. Он идет не для поражения чего-то, но для лучшего приложения своих сил. Невозможно спорить против мнения, что мученики сейчас не существуют. Иные думают, что такие понятия принадлежат ветхой древности. Неправда, постоянно усиливаются как героизм, так и мученичество, но все идет в массы народа и потому трудно различимо. Нужно не раз повторить, что народы создают совершенно новый ритм жизни. Мыслитель знал, что толпы обратятся в народы, и тогда будет оценен труд самоотверженный и героизм». |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:16 |
|
Письма Е.И.Рерих Письмо от 2-го июля 1937 г. Вся Вселенная проникнута Единым Божественным Началом, зримое и незримое бытие которого выражено в вечном, никогда не прекращающемся движении, порождающем все новые и новые дифференциации и сочетания в нескончаемой смене и раскрытии этой Неизмеримой, несказуемой и вечно непознаваемой Тайны из Тайн. Так, в основании всего Мироздания лежит великий импульс, или устремление к проявлению. Это тот же импульс, или жажда бытия, который влечет и человека к воплощению. В своем высочайшем аспекте это есть Божественная Любовь, а также и сублимированная любовь человеческая. В древнейшие времена именно Кама, Бог Любви, почитался величайшим Богом. Бог есть Любовь, и в любви и через любовь зачато каждое проявление Его. Весь Космос держится Космическим Магнитом, или Божественною Любовью в велении Бытия. Так скажите Вашим собеседникам, что Божественная Любовь зачинает все миры. В Божественном сознании нет ни начала, ни конца, а лишь вечное ЕСТЬ. Так как невозможно представить себе Беспредельность, имеющую начало, то и говорить о начале Мироздания не приходится. Разве может ум человеческий представить себе даже начало одной из Великих Манвантар, число которых теряется в беспредельности? Из Сокровенного Учения мы можем составить себе некоторое понятие о зарождении нашей планетной цепи и постараться по аналогии и по имеющимся некоторым намекам уловить проблески о зарождении цикла Солнечной системы, но это и все. Также Вы знаете, что во время частичных Пралай, или обновлений планеты или Солнечной системы, Величайшие Духи (Лестница Иакова), коллективно представляющие Космический Разум и Творящее Начало, держат дозор и планируют будущий Цикл Жизни Солнечной системы или же планеты, а затем Сами являются главными исполнителями этих начертаний. Откуда же все легенды о Пантеоне Богов или Аватарах и Богочеловеках? Ведь Иерархическое Начало есть Космический закон, есть принцип ведущий, потому всегда имеется и Высшее Духовное Существо, или Иерарх, принимающий на себя ответственность за целый Цикл, или Манвантару. В человеческом представлении такой Высочайший Дух сливается с Образом Бога личного и даже Бога Вселенского. Читая реферат о Каббале, Вы, вероятно, подчеркнете то огромное влияние, которое эти идеи оказали на европейскую литературу, особенно в средние века. Следовало бы привести и список имен выдающихся европейских каббалистов, насчитывающих в своих рядах философов, ученых, поэтов и многих духовных лиц. Именно все большие умы черпали широко из этого источника мудрости. Победа Гаральда Феликсовича принесла нам огромную радость. Примечательно, что из медицинского департамента никто не явился в суд, когда разбиралось дело. Щит Владыки покрыл светлого воина. Радовались также успеху книги о Феликсе Денисовиче. Пусть некоторые лица призадумаются, кого преследовали они, хотя и поздно, но все же, может быть, кто-то из них устыдится. Очень тронуты были мыслью О.Мисинь приступить к созданию фонда для постройки дома Общества. Конечно, таким образом все движение, начатое Ф.Д., было бы увековечено еще больше, но нужна величайшая расчетливость и осторожность, чтобы не обремениться чрезмерно. «Тайная Доктрина» лежит на моем столе, и вся видимость ее – радость для глаз. Спасибо, родные, за всю заботу, выказанную всеми Вами к этому труду. Очень хотелось бы иметь еще несколько экземпляров этого тома для обитателей нашего Ашрама. Со своим томом я не расстаюсь. Также ждем и второго, дополненного и исправленного, издания «Агни Йоги». Начала собирать письма, но вижу, что не скоро справлюсь, ибо многое приходится выпускать. Пройдет несколько месяцев до окончания. Монографию Н.К., которую Вам удалось достать, сохраните в Библиотеке Общества. У нас она имеется. Нам писали из Парижа, что французское Правительство предупредило Ригу о готовившемся там фашистском перевороте в пользу немцев и предоставило тому неопровержимые доказательства. О том же писали и местные газеты. Считаю большим счастьем, что заговор был вовремя раскрыт. Не будем думать, что Россия в терроре. Смерть висит над теми, кто причинили ее другим. Так действует Высшая Справедливость. Только что вернулся один иностранец оттуда и рассказывал нашим друзьям в Париже, что нигде не видел он такой молодежи, как там. Нигде не встречал такого устремления к знанию и к строительству. Истинно, Иван Стотысячный пробудился и жаждет принять участие в построении Новой России. Никакая тьма не может осилить Великий План Света. Истинно, Знамя Преподобного поднято над страною. Радуюсь, что, перечитывая книги Живой Этики, находите новые места для подчеркивания. Именно, явление это указывает на расширение сознания. Приношу Вам, дорогой Федор Антонович, сердечную признательность за Вашу работу по Обществу и издательству, но берегите здоровье, ибо деятельность будет расширяться. Пусть будет Вам светло и радостно. Н.К. шлет Вам самый сердечный привет. Сейчас попала на глаза страничка из «Смутного Времени» перед появлением Пожарского и Минина – переписываю ее: «Описывая тогдашнее состояние России, знаменитый келарь Троицкой лавры Авраамий Палицын писал: "Казалось, что россияне не имели уже отечества, ни души, ни веры, что государство, зараженное язвою, в страшных судорогах кончалось... Ляхи с оружием в руках только смотрели и смеялись безумству междоусобия... Сердца окаменели, умы помрачились... Гибли отечество и церковь, скот и псы жили в алтарях, воздухами и пеленами украшались кони, пили из потиров, на иконах играли в кости, в ризах иерейских плясали блудницы, иноков-священников палили огнем, допытываясь их сокровищ... Горожане и земледельцы жили в дебрях, в лесах и пещерах неведомых или болотах, только ночью выходя из них осушиться. И леса не спасали: люди, уже покинув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей. Матери, укрываясь в густоте древесной, страшились вопля своих младенцев, зажимали им рот и душили до смерти. Не светом луны, а пожарами озарялись ночи"». Пережила Россия смутное время, переживет и эту страду. Велик дух ее народа, и в страданиях и исканиях обретет он мощь непобедимую. Так суждено. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:21 |
|
Генрих Грузман МОЙ ПУШКИН (ДОПОЛНЕННЫЙ ФРАГМЕНТ ИЗ СОЧИНЕНИЯ О РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ) НАГАРИЯ 2006 "Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению тёмной дороги нашей новым направляющим светом". Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ "...Пушкин принадлежал к числу тех творческих, тех великих исторических натур, которые, работая для настоящего, приуготовляют будущее и по тому самому уже не могут принадлежать только одному прошедшему; но в том-то и состоит задача здравой критики, что она должна определить значение поэта и для его настоящего и для его будущего, его историческое и его безусловно художественное значение". В.Г.БЕЛИНСКИЙ АВТОРСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ Личность и творчество А.С.Пушкина никогда не могли пожаловаться на недостаток аналитического внимания, - напротив, в русской литературе сему предмету оказывалось столь много интереса, что на этой почве обособились самостоятельные точки зрения, направления и даже школы. Современник Пушкина Н.В.Гоголь писал в 1835 году: "Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностию проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своём творении, уже оно расходилось повсюду" (цитируется по В.Г.Белинскому, 1948, с.580). А в юбилейном 1937 году С.Л.Франк писал: "Более трёх четвертей века существует целая отрасль научных изысканий, именуемая "пушкиноведением" (считая с выхода основоположной книги П.В.Анненкова "Материалы к биографии Пушкина", 1855 г.). Начиная с конца ХХ-го века (считая с приступа к академическому изданию сочинений Пушкина и со сборника Л.Н.Майкова "Пушкин", 1899 г.), "пушкиноведение" сложилось в целую науку с почти необозримой литературой и с уже довольно прочными традициями методов научного изучения" (1957, с.58). В аналитическом осмыслении пушкинского наследия я выделяю три школы: школу Белинского, школу Достоевского и школу советского "пушкиноведения" или, как часто называют, пушкинистики. Общим опорным базисом у них служит патетическое представление о русском народе и посредством этого коллективного фактора устанавливается идеолого-эстетический климат в целом для русской пушкинистики: Белинский выводит поэтическую славу Пушкина только как прямое следствие исторического величия народа, Достоевский прославляет Пушкина как животворную мощь русского народного духа, (специалисты свидетельствуют, что после знаменитой речи Достоевского на открытии памятнику поэту в Москве, многие споры о поэтическом даровании Пушкина приобрели новый вид), а советская аналитика подводит Пушкина под принцип партийности в искусстве. В последующем изложении будет детально сообщено об особенностях каждой из этих школ, здесь же следует указать, что художественная ёмкость и поэтическая полнота пушкинской эпопеи отнюдь не исчерпывается способами и средствами академической пушкинистики. Хотя, как указывает С.Л.Франк, "Едва ли не каждая строка рукописей Пушкина, каждое устное его слово, переданное современниками, каждый день его жизни изучены с основательностью, довольно редкой в других областях русской науки" (1957, с.58), но помимо внешнего мнения знатоков и авторитетов, наличествует сугубо личное отношение каждой отдельно взятой человеческой особи к пушкинскому источнику. Это состояние восхищения перед прелестями пушкинского слова или образа и непередаваемого настроения от насыщения духовными ценностями знакомо каждой читающей душе, но не каждый индивид способен поставить это отношение во главу угла пушкинского восприятия, и, главное, не каждая душа может дойти до понимания, что данное отношение не обязано считаться с узаконенными литературоведческими канонами, и не зависимо от укоренённых догматов в силу того, что опирается не на коллегиальную мудрость литературных авторитетов, а на самочинно-индивидуальное ощущение, и, следовательно, это отношение не субъективно, а глубоко объективно. Его особенность в том, что оно исходит из потенций человеческой души, опосредованных во внутренних переживаниях и перцепциях, как индивида, так и поэта; другими словами, речь идёт об эстетическом контакте или психоневротической гармонии внешнего авторского источника и внутреннего аккумулятора читательской души вне какого-либо коллективистского гипноза. Собственно, само понятие "внешнего" в данном случае имеет условный характер, ибо возникает полная иллюзия того, что поэт выражает чувства читателя, а читатель служит рупором для оглашения чувств поэта. В противном, коллективистском подходе, как замечает С.Л.Франк, "...оставалось лишь либо тенденциозно искажать общественное мировоззрение Пушкина, либо же ограничиться общими ссылками на "вольнолюбие" поэта и политические преследования, которым он подвергался, а также на "гуманный дух" его поэзии, на "чувства добрые", которые он по собственному признанию, "пробуждал" своей "лирой" (1957, с.30). По сути дела, в этом состоит гарантия гениальности творческой натуры: гений тот, кто может создавать ценности в каждой индивидуальной душе в веки вечные, тобто вечно. Это и есть мой Пушкин - персональный и самодостаточный - в его кардинальном отличии от Пушкина Белинского, Пушкина Достоевского и Пушкина советской пушкинистики. Однако мой ещё не значит для себя, и это местоимение не предполагает ничего, что можно поставить вместо имени автора и его души (любой герой в произведении есть частица авторской души), как не предполагает феодальной собственности духовных ценностей, постоянно возникающих из со-общения с автором; каждый сочинённый герой есть субстанция, тобто то, представление чего исходит из самого себя и не требует представления другого предмета. Спинозовское определение субстанции здесь дано с той целью, дабы подчеркнуть, что Пушкин в каждом своём персонаже индивидуальный и самозначимый, и не нуждается в каких-либо внешних представлениях, типа общества, государства, народа. Итак, не внешние параметры коллективного толка, - народ, народность, общество, общественность, - обеспечивают консистенцию действующих лиц произведения, а напротив, - личностные характеристики выступают всегда первичными по отношению к коллективным активам. Однако мой Пушкин может состояться только при единственном и непременном условии: если Пушкин как творец принадлежит к мировоззрению, проповедующему приоритет личности, а не народа. Итак, мой Пушкин, прежде всего, философ, тобто творец, созерцающий мир с определённых позиций, и философский аспект составляет самую яркую черту личностного усвоения Пушкина. Но при этом требуется знать, что философский подход per se (сам по себе) был утверждён в русской литературной критике В.Г.Белинским с той страстностью, какая присуща ему во всех пассажах, но "неистовый Виссарион" насаждал коллективистскую идеологию философии народности, тогда как для моего Пушкина предназначается личностное воззрение, подпитанное мудростью Б.Спинозы. И, тем не менее, именно Белинскому удалось со своей народнической платформы первому возвестить о всемирной славе Пушкина как русского поэта и его профессиональная характеристика поэтического дара Пушкина уникальна и неповторима по объёму и красочности. В составе этой оценки Белинский заявлял: "И чем совершеннее становился Пушкин как художник, тем более скрывалась и исчезала его личность за чудным, роскошным миром его поэтических созерцаний". Понятно, что мировоззрение Белинского не приемлет личностные мотивы поэта, точнее, те мотивы, которые не указывают на верховную и благодатную роль народа, но всё же гениальный критик не мог игнорировать именно такие мотивы в пушкинской музе, и он тут же написал: "Как бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что он не мог выйти из заколдованного круга своей личности, - и со всею добросовестностью человека и художника написал своё превосходное стихотворение "Поэту": Поэт! не дорожи любовию народной: Восторженных похвал пройдёт минутный шум; Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но ты останься твёрд, спокоен и угрюм. Ты царь: живи один. Дорогою свободной Иди, куда влечёт тебя свободный ум, Усовершенствуя плоды высоких дум, Не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд; Ты им доволен ли, взыскательный художник? (1948, с.586) Не подлежит сомнению, что человеческая, тобто русская, личность нашла в устах Пушкина своего певца, и этого не отрицает даже Белинский, правда, не упуская возможности указать на имеющийся или подозреваемый народнический подтекст пушкинских шедевров (к примеру, Белинский акцентирует, что «"Полтава" богата новым элементом - народностью в выражении», но, находясь в упоении от художественного совершенства поэтической речи Пушкина, Белинский порицает автора за доминирование в исторической поэме сюжетной личностной линии над коллективной исторической: "Вот первая ошибка Пушкина, и ошибка великая" (1948, с.с.614, 617). Из этого противостояния самопроизвольно возникает вопрос: в силу какой причины Пушкин воспевает личность и является поэтизация личности художественным приёмом, игрой творческого воображения либо мировоззренческой категорией великого поэта? Итак, истинное мировоззрение А.С.Пушкина есть ключевой вопрос пушкинистики. Явная индивидуально-личностная направленность пушкинской беллетристики являлась "головной болью" не только для Белинского, но и современные аналитики стремятся исключить эту тему из пушкинской проблематики. Советский философ Арсений Гулыга отметил: "Иногда приходится читать, что проблема личности возникла в России только в период становления буржуазных отношений, чуть ли не с Пушкина. Это неверно" (2004, с.14). Удивительно легковесный вывод для такого серьёзного мыслителя, - на самом деле проблемы личности в России никогда не существовало. В реальной сфере, данной как фактическая действительность российской истории, проблемы личности не было как таковой, ибо индивидуальная особь никогда, от князя Владимира Красное Солнышко и до президента Владимира Путина, не имела в России какой-либо стоящей цены. А в идеальном секторе интеллектуального мира России, в среде русских духовных мыслителей, личность была явлена не в виде проблемы, а в форме чеканного однозначного тезиса, и добротная дефиниция личности принадлежит не русскому православию, как доказывает А.В.Гулыга, а русскому философу В.С.Соловьёву. В последующем будет оглашён расширенный манифест, данный Соловьёвым единичной гоменоидной конструкции, и будет проведено утверждение, что на базе нового представления о человеческой личности возникла русская духовная (идеалистическая) философия и разрослась мощная русская духовная школа, своеобразие и значимость которых по сей день не отмечены в истории философии. В подобном контексте индивидуализированное и личностное поэтическое представление Пушкина выходит за пределы мировоззрения персонально самого поэта, а непосредственно раскрывается в соловьёвский тезис, являясь, по сути, не только корнем и предпосылкой философской сентенции о личности, но и началом русской духовной философии. Это обстоятельство новым светом освещает А.С.Пушкина как верховную и монументальную фигуру феномена русской духовности, а также делает его причастным к опорному понятию последней - русской идеи. Хронологически русская идея возникла после Пушкина, но всё то, что сконденсировано в представлении о пушкинской традиции содержательно раскрывается в русской идее. Опоэтизированная русская идея суть мой Пушкин в вечном сиянии. А.В.Гулыга отметил: "Русская идея переживает сегодня второе рождение, становится культурной реальностью нашего времени" (2004, с.6), а в данном фрагменте из трактата о природе русской духовности я хочу показать, что Пушкин, дав начало русской идее, необходимо является также "культурной реальностью нашего времени". Подобное намерение осуществляется на материалах тех пушкинских произведений, которые в специальной литературе иногда называются "философской лирикой". Глава первая. РУССКАЯ ИДЕЯ "Не в нашей власти решить, когда и как совершится великое дело всечеловеческого единения. Но поставить его себе, как высшую задачу и служить ему во всех делах своих, - это в нашей власти. В нашей власти сказать: вот чего мы хотим, вот наша высшая цель и наше знамя - и на другое мы не согласны". Владимир СОЛОВЬЁВ "Русская идея" в своей этимологической самостоятельности принадлежит авторству великого русского философа Владимира Сергеевича Соловьёва, но в понятийном значении первоначально имела отнюдь не философское содержание (А.В.Гулыга настаивает, что "...термин "русская идея" родился под пером Достоевского. В объявлении о подписке на журнал "Время" на 1861 год он писал: "Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа, в отдельных своих национальностях" (2004, с.7) Строго говоря, "русская идея" ещё не является термином, а только морфемой свободного пользования). Программную работу "Русская идея" Вл.Соловьёв начинал с возвещения: "Я имею в виду вопрос о смысле существования России во всемирной истории. Когда видишь, как эта огромная империя с большим или меньшим блеском в течение двух веков выступала на мировой сцене, когда видишь, как она по многим второстепенным вопросам приняла европейскую цивилизацию, упорно отбрасывая её по другим, более важным, сохраняя таким образом оригинальность, которая, хотя и является чисто отрицательной, но не лишена тем не менее своеобразного величия, - когда видишь этот великий исторический факт, то спрашиваешь себя: какова же та мысль, которую он скрывает за собою или открывает нам; каков идеальный принцип, одушевляющий это огромное тело, какое новое слово этот народ скажет человечеству; что он желает сделать в истории мира?" (1999, с.623). Подобный великодержавный подход не может иметь прямого выхода к той философской обители, где формируются идеи вообще, и русская, в частности. Поэтому те взгляды, которые глубоко порицаются А.В.Гулыгой и в которых "русская идея" называется "идеологией русского империализма" или "государственной имперской идеей", не лишены некоторых оснований. Во всяком случае сам тип мышления, наличествующий в данном подходе, лишь в малой степени способствует продуктивности философской аналитики, если последнюю понимать в курсе основного требования к мышлению, высказанного тем же Вл.Соловьёвым: "Философия, как известное рассудительное (рефлексирующее) познание, есть всегда дело личного разума.... Поэтому философия в смысле мировоззрения есть мировоззрение отдельных лиц. Общее мировоззрение народов и племён всегда имеет религиозный, а не философский характер, и потому, пока все отдельные лица живут общей духовной жизнью народа, философия как самостоятельное и верховное воззрение невозможна: умственная деятельность лиц вполне определяется народными верованиями. Это ясно a priori и несомненно исторически" (1999, с.с.309, 310). В соответствие с чем в содержательно-познавательном смысле трактуемой Соловьёвым русской идеи различаются два аспекта. Согласно первому из них русская идея помещается в богословское русло и преподносится Соловьёвым как некая религиозная истина коллективистской (народнической) природы. Само же богословское русло находится на христианском поле Западной Европы и принадлежность русской идеи к христианскому мироучению делается русским философом её основополаганием: "Русский народ - народ христианский, и, следовательно, чтобы познать истинную русскую идею, нельзя ставить себе вопроса, что сделает Россия чрез себя и для себя, но что она должна сделать во имя христианского начала, признаваемого ею и во благо всего христианского мира, частью которого она предполагается" и ещё: "Русская идея, мы знаем это, не может быть ничем иным, как некоторым определённым аспектом идеи христианской, и миссия нашего народа может стать для нас ясна, лишь когда мы проникнем в истинный смысл христианства" (1999, с.с.632, 642). Второй аспект содержательной сущности русской идеи по Вл.Соловьёву гнездится во внутренней сути той религиозной истины, для выражения которой предназначена русская идея. Соловьёв утверждает: "Раз мы признаём существенное и реальное единство человеческого рода - а признать его приходится, ибо это есть религиозная истина, оправданная рациональной философией и подтверждённая точной наукой, - раз мы признаём это субстанциональное единство, мы должны рассматривать человечество в его целом, как великое собирательное существо или социальный организм, живые члены которого представляют различные нации" (1999, с.623). Этим однозначно свидетельствуется, что истина, "оправданная рациональной философией и подтверждённая точной наукой" и рассматривающая "человечество в его целом, как великое собирательное существо или социальный организм", целиком и полностью принадлежит антропософской (anthropos - человек, sophia - мудрость) системе знаний, а именно: европейской антропософской формации. Итак, если во внешнем историческом плане русская идея подаётся Соловьёвым как христианско-богословское образование, то в содержательном антропософском порядке русская идея Соловьёва всецело размещается на философской территории Европы, а точнее, в области западной концепции человека как члена человечества (в дальнейшем будет указано на соотношение двух различных философских продукта - западной концепции человека как члена человечества и русской концепции человека как культа личности). Этим самым русский философ выражал признание методологической ценности западной философской доктрины, которую он, вместе с тем, решительно опровергал в блистательном трактате "Кризис западной философии", где заключал: "А между тем именно теперь, в ХIХ веке, наступила пора для философии на Западе выйти из теоретической отвлечённости, школьной замкнутости и заявить свои верховные права в деле жизни... Старое религиозное мировоззрение утратило всякий действительный смысл для большинства образованных людей, во всяком случае перестало быть верховным определяющим началом в их сознании, а в массах превратилось в безжизненное, исключительно на бытовой привычке основанное суеверие" (1999, с.403-404). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:23 |
|
Полагая во главу угла человечество в форме собирательного множества себетождественных особей, - главного конструкта западной концепции человека и основного антипода индивидуальной личности русской концепции человека, - Вл.Соловьёв вносит в русскую идею моменты, не имеющие имманентно русского характера и не определяющие сугубо русскую духовность в русской исторической эпопее, как бы глубокомысленно и новаторски ни были бы схвачены "мысль", "идеальный принцип" и "новое слово" русской истории во всемирном масштабе. Вне коренного русского знания о человеке любые модификации русской идеи будут иметь вид искусственно созданных конструкций и потому структурный макет Всеединства), Соловьёв называет его ещё "Царство Божье"), который философ намерен обнародовать через русскую идею, удивляет какой-то угловатой наивностью, столь не свойственной творчеству гениального мыслителя. Будущее устройство Царства Божья Соловьёв конструирует по державному типу на основе трёх факторов: 1. "духовного авторитета Вселенского Первосвященника (непогрешимого главы священства), представляющего истинное непроходящее прошлое человечества"; 2. "светской власти национального государя (законного главы государства), сосредоточивающего в себе и олицетворяющего собою интересы, права и обязанности настоящего"; 3. "наконец, свободного служителя пророка (вдохновенного главы человеческого общества в его целом), открывающего начало осуществления идеального будущего человечества. Согласие и гармоническое действие этих трёх главных факторов является первым условием истинного прогресса" (1952, с.29). Соловьёвское предсказание "идеального будущего человечества" ни в какой мере не сочетается с будущим ноосферном обществом по конструктивным параметрам и не приемлется теорией философской культуры ни в общем, ни в частностях, ни в кардинальном порядке[1]. Полярному расхождению тут подвержен сам динамический принцип различных процедурных механизмов воплощения идейного замысла. В ноосферном видении осознание будущего обуславливается операцией "взгляд в будущее из настоящего", где костяком служит вера, но не знания, - знания в этой процедуре производятся из веры, приобретая вид верных, но обязательно вторичных, знаний, тобто знаний, творимых верой на базе динамической логики событий по схеме знать - значит использовать. Макет Соловьёва составлен при помощи операции "взгляд в будущее из прошлого": в прошлом Соловьёв берёт идеализированное государственное предприятие и транслирует его в будущее, в котором не оказывается места деятельной человеческой личинке. Вера в такой структуре может быть выведена только из прошлого, то есть знания выступают здесь первичным, стоящим над верой, атрибутом, и она превращается в немыслимую веру или суеверие, - именно таким является убеждение, что в Царстве Божьем потребно государственное, иерархизированное, соподчинённое устройство. Идеализация расчленения времён - прошлого, настоящего, будущего - через привязку их к разным ведомствам непременно приводит к тому, что "первое условие истинного прогресса" превратится во всем известную конструкцию "лебедь, рак и щука". Подобная композиция может быть соотнесена с русской идеей только произвольно либо волюнтаристски, ибо тут Русью даже "не пахнет". Ноуменально расширил тему русской идеи другой выдающийся русский философ - Николай Александрович Бердяев. Масштаб, в каком философ замыслил рассмотрение этой темы, не может не восхищать, - Бердяев пишет: "Меня будет интересовать не столько вопрос о том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о России, умопостигаемый образ русского народа, его идея" (2001, с.489). Но и Бердяев, аналогично Соловьёву, ставит русскую идею в прямую связь с коллективной манией народа России, априорно предусматривая некую особенность в русской исторической судьбе, что и должно быть извещено через русскую идею. Бердяев утверждает: "Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова её судьба. Русским людям давно уже было свойственно чувство, скорее чувство, чем сознание, что Россия имеет особенную судьбу, что русский народ - народ особенный" (2001, с.517). Не утруждая себя необходимостью доказывать русскую "уникальность" как особенность русской идеи, Бердяев превращает свою монографию "Русская идея" в каталог важных событий и мартиролог великих имён русской истории, которая, как и всё, что вышло из-под пера этого мыслителя, насквозь прошита неординарными мыслями, глубокими откровениями и гениальными озарениями, но лишено систематичности. В своём анализе Бердяев применяет особый термин "народная индивидуальность", понимая под ним характеристику того "собирательного" существа, которому формально ничто не мешает слиться с европейским понятием человечества. Но в этом Бердяев пошёл дальше Вл.Соловьёва и "народная индивидуальность", данная как специфический показатель русской самобытности, приведена Бердяевым к другому, сугубо русскому, параметру - соборности, русской галлюцинации европейского человечества. Для русских духовников "соборность" больше, чем понятие, и выше, чем терминологическая аллегория, - она есть философская проблема или философема, дотягивающая до мировоззренческих высот. Выход соборности как философемы русского единения на церковь, а точнее, православную церковь, а ещё точнее, не на реальную православную церковь, а на идеальное православие, такое, какое оно должно быть в отвлечённой идее, есть чисто русский оборот, которым русские духовники стараются заполнить внутреннюю полость русской идеи. Хотя философема соборности исторически не состоялась и православное христианство, создающееся в течение тысяч поколений, было разгромлено большевизмом за время одного-двух поколений, томление о соборности без изменений перешло в наше время. А.В.Гулыга отмечает: "Органическое единство общего и единичного нашло выражение в понятии соборности. Это зерно русской идеи, центральное понятие русской философии, слово, не поддающееся переводу на другие языки, даже на немецкий - самый всеобъемлющий по части философской терминологии". Важно при этом дополнение Гулыги: "Православие - важнейший источник русской идеи" (2004, с.с.16,12). Н.А.Бердяев считал родоначальником соборности, как парадигмы идеального православного единения, известного теософского публициста первой половины XIX века А.С.Хомякова и писал: "Западные христиане, и католики, и протестанты обыкновенно с трудом понимают, что такое соборность. Соборность противоположна и католической авторитарности, и протестантскому индивидуализму, она означает коммюнотарность, не знающую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистического уединения и замкнутости" (2001, с.633). Итак, "коммюнотарность", термин, изобретённый Бердяевым для обозначения процесса духовного слияния, есть, по своему существу, механика соборности, и этим "русская идея" Бердяева отлична от "русской идеи" Соловьёва, ибо, будучи религиозной истиной, русская идея черпает эту истину в соборности, какая непонятна для того общехристианского воззрения, в рамках которой Соловьёв строит истину для русской идеи... Коммюнотарность обладает русским своеобразием и в процессуальном отношении, поскольку акт всеединения (соборность) тут совершается за счёт добровольного погружения всех индивидуальностей во взаимном тождестве, какое обозначается фигурой "мы" (поданного не в качестве грамматического знака, а в форме понятийного определения). Тогда как в западной концепции фигура "мы" (или человечество) формируется за счёт изгнания индивидуальности "Я" во всех видах. Для русского соборного коллектива предпосылкой является избавление каждой индивидуальности от тех самозначимых качеств, какие не способствуют её сочленению с тождественной индивидуальностью, - отец Сергий Булгаков устанавливает: "Освободиться от субъективности - это значит быть "я" соборным" (1993, т.I, с.411). Через тот же принцип коммюнотарности Бердяев проводит мысль о всеобщем равенстве в русской идее под оригинальным видом: "Это русская идея, что невозможно индивидуальное спасение, что спасение коммюнотарно, что все ответственны за всех" (1971, с.202). "Все ответственны за всех" суть формула особой бердяевской "несотворённой свободы", предшествующей Всеединству или Царству Божьему; в дальнейшем изложении будет показано, что тезис поголовной ответственности логическим образом выливается в безответственность, дающего в итоге вседозволенность - злейшего врага свободы, а бердяевская теорема "несотворённой свободы" в действительности становится оправданием рабства. Всеобщее равенство, к которому в русской идее устремляются как поведенческая норма массовой ответственности, так и духовное состояние "единоверия, единочувствие, единомыслия, согласия во мнениях" (о.С.Н.Булгаков, а у Бердяева сказано: "Это и есть русская коммюнотарность, общинность, хоровое начало, единство любви и свободы, не имеющее никаких внешних гарантий. Идея чисто русская"), составляет глубинный субстрат, на котором одинаково покоятся русская идея и западная концепция человека. Вследствие этого, невзирая на типично русские элементы в конструкции Бердяева, - постулат коммюнаторности и парадигму соборности, - русская идея, по Бердяеву, не может быть русским извещением, а есть не более, чем русским миражем европейского человечества. Бердяев также считал, что "Русская идея эсхатологическая, обращённая к концу", но опять-таки, всеобщему, общеуравнённому "концу" для всех одновременно, как и восход Царства Божья - одинаков для всех. Всеобщее равенство есть поросль собрания себетождественных величин и вне коллектива этой мысли не существует, и оно же есть стихия, в которой индивидуальности не дано себя знать и она растворяется либо погружается в среду вседозволенности и безнаказанности, ибо не в состоянии обладать абсолютной свободой. Идея равенства устраняет из русской идеи, если её воспринимать как объявление, качественного своеобразия русской духовности, её оригинальное, самобытное ядро о самозначимости каждого и конкретного гоменоида, и делает её неактуальной, неинтересной и маловыразительной модификацией всеобщего постулата свободы, равенства и братства, прославившего себя в качестве лозунга самых кровопролитных революций и социальных взрывов. Таким образом, великие создатели русской идеи, Соловьёв и Бердяев, в своём первоначальном варианте приводят идею идеальной личности к идеалу коллективного человечества, а это означает, что русская концепция человека ставится под протекторат европейской концепции человека как члена человечества с сопутствующей сменой уровней познания - от высшего религиозного (индивидуального) к рационально-уравнительному (коллективному). Именно последнее привело русских великомудрецов - Соловьёва и Бердяева - в тупик и их макет русской идеи, смонтированный на коллективистских началах, оказался русской натурой без русской души. Но всё решительно и кардинальным образом изменилось, когда Вл.Соловьёв обнародовал тезис: "Личность человеческая, - и не личность человеческая вообще, не отвлечённое понятие, а действительное, живое лицо, каждый отдельный человек, - имеет безусловное, божественное значение" (1999, с.42; выделено мною, - Г.Г.). В идейном аналогичном ключе выставил своё credo Н.А.Бердяев: "Личность не может быть частью в отношении к какому-либо целому, космическому или социальному, она обладает самоценностью, она не может быть обращена в средство. Это - этическая аксиома" (1994, с.297). Будучи по содержательному смыслу ни чем иным, как декларацией индивидуальной личности ("этической аксиомой"), эти тезисы, по сути своей генетической природы, слагают именно то извещение, которое на мировоззренческом уровне объявляет о наличии специфического, самостоятельного и исключительно самобытного качества русского духа, а на познавательном уровне выступает русской концепцией человека, где В.С.Соловьёв и его сподвижники утвердили в русской духовной философии культ личности. С тем, чтобы убедиться в доморощенной природе и самобытном русском генезисе данной декларации, которая в качестве культа личности выступает решением общефилософской проблемы человека, необходимо ноуменально сопоставить такую же декларацию западной философской школы, какая решает ту же общефилософскую проблему человека, но в собственном виде человека как члена человечества. С глубокомыслием и определённостью, аналогичным соловьёвским, здесь выступил великий философ И.-Г.Фихте: "Добрая воля индивидуума так часто погибает для этого мира по той причине, что она всё ещё только воля индивидуума, а воля большинства не находится с ней в согласии, ...величайшее заблуждение и истинное основание всех остальных заблуждений, завладевших нашей эпохой, состоит в том, что индивидуум мнит, будто он может сам по себе существовать и жить, мыслить и действовать, и думает, будто он сам, данная определённая личность, есть мыслящее в его мышлении, тогда как на самом деле он - лишь единичная мысль единого всеобщего и необходимого мышления... Сообразно с этим разумная жизнь состоит в том, что личность забывает себя в роде, связывает свою жизнь с жизнью целого и приносит первую в жертву последнему; ...существует лишь одна добродетель - забывать себя как личность, и лишь один порок - думать о себе" (1993, т.II, с.с.210, 381, 392). Контраст между европейской концепцией человека (человек как член человечества) и русской концепцией человека (культ личности), таким образом, имеет антиподальный характер: в западном мудрословии отвергается то, что положено в основу русской мудрости, - а именно: индивидуальная личность. Декларация индивидуальной личности, олицетворённая в русской концепции человека, представляет собой колокольный звон русской духовности. Само собой разумеется, что только данный звон обязан быть тональностью внутреннего ядра русской идеи и вне русской концепции человека русская идея не может соответствовать тому назначению, что ожидается от неё русскими мыслителями, - к примеру, Бердяев указывает: "Русская мысль, русские искания начала ХIХ в. и начала ХХ в. свидетельствуют о существовании русской идеи, которая соответствует характеру и призванию русского народа" (2001, с.712). Идея, долженствующая исполнять подобное генеральное назначение, не может относиться к рядовому классу идей и для реализации аналогичного предписания необходимы не ходовые методические средства, а соответствующие мыслительные системы и комплексы. В связи с переориентацией качественного центра тяжести русской идеи с коллективного на индивидуальный, с всеобщей ortodoxa (высшего мнения) на особенную doxa (мнение), резко меняется уровень познания и характер потребной мыслительной системы аппроксимируется (бесконечно приближается) к мировоззрению отдельного лица, по Соловьёву, тобто к собственно философии. Но и философия тут обладает качественной особенностью, которая заключена в том, что основным предметом в ней выступает русская духовность во всех своих пертурбациях и видоизменениях, - следовательно, речь идёт о русской духовной философии, через которую и посредством которой единственно может раскрыться русская идея, данная как компактная форма (генеральное назначение), воспроизводимых русской духовностью. Это означает, что начало русской духовной философии есть в то же самое время и начало русской идеи, а зарождение русской духовной философии есть не только необходимая предпосылка, но и момент возникновения русской идеи. При этом требуется понимать, что условия русской идеи, каковы бы они не были, исключают признак избранности для русской духовности, и специфика последней есть не аргумент некоего превосходства русского народа, якобы заведомо предназначенного к особой миссии, а суть функция архетипической данности самобытного человеческого духа. В совокупности эти обстоятельства формируют ценность русской идеи в том варианте, где русские коллективистские атрибуты (коммюнотарность и соборность) замещаются русской концепцией человека и идеологии Богочеловечества, и в каком она приобретает вид генератора мощной культурной силы русской духовности, долженствующей быть ударной мощью ноосферного творчества. Данная аналитическая ситуация настоятельно требует рассмотрения концепта русской идеи в историческом аспекте, в каком она не подвергалась в русской аналитике, и оное обозрение необходимо должно быть повернуто в сторону генезиса русской философии. Следует подчеркнуть, что русская философия понимается в качестве самобытного компактного духовного гнозиса, принципиально несводимого к недавно господствующей в России диалектико-материалистической философии. Даже после её краха в России не признаётся самостоятельная духовная философия Соловьёва-Бердяева, а под именем философии всеединства включается в состав малопонятной конструкции "русского космизма" ("Современный философский словарь",1998). В русской истории каждый век загадочен, но ещё больше загадок таит в себе история русской философия, и философские тайны русской духовности ещё не обрели своих летописцев. В числе первых номеров великих философских мистерий русской истории следует поставить екатерининский век, - время, давшее живую историческую форму всем реформам Петра, а, главное, воплотившее их следствия в единое генеральное последствие: оформление в русском обществе двух сосуществующих духовностей - дворянской духовности и крестьянской духовности (данная двойственность прямо противоположна разделению русского общества по классово-имущественному признаку). Это сосуществование, ставшее судьбоносным для России, за всё время жизнедеятельности, вплоть до большевистского погрома, не обрело своего осмыслителя, но зато в великом множестве обзавелось обличителями и порицателями этого дуализма русской жизни. Данный дуализм никогда не ставился на обсуждение в духовном ракурсе, а именно, как определённые духовности, хотя с эмпирической стороны этот факт не может подвергаться отрицанию. Два различных источника этих духовных общностей, - внешний западный и внутренний народный, спаянные насильственно самодержавной волей Петра, - насыщены настолько отличными природой и духовными характеристиками, что их столкновение и противодействие на первых порах не только неизбежно, но и закономерно, а потому эта конфронтация не может не иметь исторического характера. Можно решиться даже на далекоидущее предположение, что вся послепетровская история России, по крайней мере, ближайшее столетие, генерировалась этим противоречием. Во всяком случае, более уверенным можно быть в том, что выступление народных масс, известное как пугачёвский бунт, не обошлось без причинного влияния результатов петровских реформ, и ничто объективно не мешает видеть в основе этого крупнейшего явления народной жизни екатерининской эпохи взаимодействие дворянской и крестьянской духовностей. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:25 |
|
Но этот и все аналогичные явления привычно рассматриваются исключительно с социальных позиций, а в отношении пугачёвского бунта не было даже попыток подойти с духовной стороны (интерес А.С.Пушкина к пугачёвскому событию - исключение, но, к великому сожалению, он оказался нереализованным). При осмыслении пугачёвской акции с позиций социальной, материалистической мотивации, а, повторимся, только такой подход и считается единственно верным, невозможно уйти от странного вывода: самое мощное за всю историю России социальное проявление народного недовольства не привело к какому-либо зримому общественному результату. Кроме узколокальных, несущественных или, существенных только в административном порядке, сдвигов, этот исторический катаклизм не принёс в социальную сферу русской жизни значимых перемен; иными словами, этот всенародный акт как раз в материалистической среде оказался исторически бесплодным. В такой же мере странный, но в другом масштабе, итог пугачёвская стихия явила в духовном разрезе, тобто если пугачёвский акт рассматривать в качестве взаимоотношения этих двух духовностей. И этот итог воистину парадоксальный: весь последующий после пугачёвского бунта исторический ход событий достаточно полно вмещается в курс сближения дворянской и крестьянской духовностей, - в России наступил очень яркий период, отмеченный интенсивным проникновением дворянской духовности в народную и обратным внедрением народного духостояния в дворянскую среду, что в совокупности привело к вулканическим взрывам духовной активности в русской жизни конца XVIII - начала ХIХ веков. Именно эта сближенность стала роковой для наполеоновской амбиции, перед которой пали ниц все европейские духовные комплексы; в этом секторе следует искать объяснения исторически важному факту о почти полной невосприимчивости русским обществом идей Французской революции и полнейший крах декабристского восстания, похожего больше на юношескую шалость горячих голов, закончившуюся столь трагически. Видимо, в этой же сфере спрятана причина невыясненного, но само по себе яркого, события русской истории: за весь период новейшей истории импорт духовных ценностей в Россию всегда доминировал над экспортом, но в екатерининское время приток духовного материала был не только максимальным, но и ещё, единственно во всей последующей и предыдущей истории страны, сопровождался людской эмиграцией из Европы; как центр эмиграции Россия в это время вряд ли много уступала Америке. Но самым важным результатом, которым следует завершать историческую екатерининскую эпоху, стало создание русской философии. Этот вывод, мало соотносимый с традиционными канонами получения исторических рубежей и с критериями понимания исторического процесса в целом, априорно генерируется из представления о ведущей роли духовного фактора в динамике временной последовательности событий и методологически воплощается в придание институту духовности ранга исторического параметра. Именно в недрах этого параметра осуществлялось взаимодействие двух типов духовностей, данных России гением и волей Петра, и именно данное взаимодействие воспроизводит новый продукт и приводит к появлению некоего синтезе с качественно новыми свойствами. Этот синтез и называется нами русской духовностью - духовной общностью, вобравшей в себя обе эти парафии - дворянское и крестьянское духоощущения, но не сводящуюся целиком ни к одному из своих составляющих компонентов, а выступающей в своей сущности самостоятельной, неповторимой, духовной ассоциацией. Самочинность духовной общности даёт о себе знать, прежде всего, независимым ходом развития с превращением исходного духовного сущего в качественно усложнённые стадии процесса. Высшей, в известной мере финальной, стадией формирования русской духовности, как специфического синтезирования разнородных элементов и стала русская философия. Другую важнейшую грань русской духовности составляет именно двойственность внутреннего содержания, благодаря чему она обладает своим внутренним противоречием, - надёжнейшим гарантом стойкости и жизненности самой конструкции. Итак, самостоятельность и двойственность определяют характеристические параметры русской духовности в её самозначимости и нетождественности. Таким образом, величайшее историческое значение для России реформаторской деятельности Петра I удостоверяется и в том, что её результатом стало формирование исключительно русской коллизии: дворянская духовность - народная духовность. Без опасения намного ошибиться, можно с уверенностью заявить, что в недрах этой коллизии и произошло зарождение русской философии. Эту мысль обосновывает такой знаток русской общественности, как Г.В.Плеханов. В незавершённой работе "История русской общественной мысли" Плеханов говорил об эмбриональных формах русского философского мышления в петровское время, посвятив этому отдельную главу "Учёная дружина" и самодержавие", где упоминает три имени - архиепископа Феофана Прокоповича (1681-1737), князя Василия Никитича Татищева (1686-1750) и писателя-сатирика Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744). Особо Плеханов выделяет Кантемира, "который во всяком случае имел ту заслугу, что был одним из первых по времени русских писателей, вплотную подходивших к философским вопросам". Однако Кантемир не только приближался "к философским вопросам", но и изрекал философские истины, - так, философема, впоследствии стяжавшая славу русской духовной философии, впервые прозвучала в устах А.Д.Кантемира: "Натура души моей совсем отменна от тела. Кто такие разные существа совокупил вместе и во всех операциях держит в согласие? Сие соединение не может так, как от существа всевышнего, которое два рода совершенства соединило в своё бесконечное совершенство". Плеханов замечает по этому поводу: "Это плохо изложено", но "плохо" тут означает не стилистическую оценку, а плохо для материалиста Плеханова то, что и вопрос, и ответ Кантемира стоят не в материалистическом, а в сугубо идеалистическом (духовном) ракурсе. И особенно это обстоятельство сказывается на рассуждениях Кантемира о свободе воли. Как бы наши знания о младенческом возрасте русского философского воззрения не были скудны, отрывочны и даже противоречивы, достоверным в них следует считать, что дата рождения русской философии скрыта в петровских глубинах, а сами генетические источники, откуда появились первые русские философские думы, обладают духовной (идеалистической), а не материалистической консистенцией. Это обстоятельство гарантирует, что дуалистичность, в которую была погружена русская духовная жизнь в результате петровских реформ, начинает склоняться к собственно духовному производству, а, по-другому говоря, данный дуализм - европейское-русское - петровского самодержавия начинает приобретать духовный облик в виде оформления основополагающего отношения в духовностной коллизии... Следовательно, характер, да и сама данность, русской общественной жизни неизбежно будет определяться и генерироваться способом взаимоотношения данных компонентов внутри коллизии: один путь взаимных отношений между дворянской и крестьянской ветвями обуславливается взаимопроникновением, дающим последовательную синтезированную механику и приводящим к принципу обогащая обогащаясь, - это философский путь; и второй путь, порождающий взаимные столкновения и притязания, доходящий до обоюдной вражды и приводящий к торжеству принципа "или-или", - это политический путь. При преобладании этого последнего из петровской коллизии выступают столь знакомые конфронтационные фигуры, как "Европа-Россия", "Запад-Восток", "западничество-славянофильство", которыми на многие годы был задан тон русских общественных отношений в послепетровской истории. Один из идеологов русского духовного кодекса С.Л.Франк сделал вывод: "В известном смысле борьба между западничеством и славянофильством проходит с того времени и до наших дней через всё развитие русской мысли" (1965,с.9). Франк прав и лидер доморощенной современной российской демократии Ю.А.Афанасьев в 1995 году ставил всё тот же сакраментальный вопрос: "какой из векторов социального развития для России наиболее вероятен на данном этапе её развития - восточный или западный?". Прав Франк и в том, что "борьба" являлась способом отношения между этими дуалистическими элементами, а это означает, что исторически реальная общественная жизнь в России развивалась не по философскому пути, а двигалась по политическому кругу и была детерминирована политической мотивацией. Отсюда следует аналитический вывод, что западничество и славянофильство суть общественно-политические движения, но никак не философские образования. Собственно говоря, этот вывод не представляет аналитической новости и для его обозначения не нужна изложенная посылочная база, но это необходимо для убедительного обоснования главного вывода, что русская идея, имея в себе философское ядро, не могла зародиться ни в западничестве, ни в славянофильстве, ни в народничестве. Н.А.Бердяев, оценивая этот отрезок российской истории, делает интересное заключение: "Русская мысль по своей интенсии была слишком тоталитарной, она не могла оставаться отвлечённо-философской, она хотела быть в то же время религиозной и социальной, в ней был силён моральный пафос. В России долгое время не образовывалось культурной философской среды" (2001, с.626). Сей пассаж не может не удивлять, ибо в российской общественной аналитике нет исследователя, который не отмечал бы интенсивного и благотворного влияния западной философии на развитие русской познающей мысли в то время. Тот же Бердяев сделал этот момент частью своего исторического обзора русского общественного развития и писал: "Основным западным влиянием, через которое в значительной степени определилась русская мысль и русская культура ХIХ века, было влияние Шеллинга и Гегеля, которые стали почти русскими мыслителями" (1990, с.24), а в другом месте расширяет этот тезис: "Германский идеализм, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель имели определяющее значение для русской мысли. Русская творческая мысль начала раскрываться в атмосфере германского идеализма и романтизма. Поразительна двойственность немецкого влияние в России. В русской государственности проникновение немцев было вредным и фатальным. Но влияние немецкой философии и немецкой духовной культуры было в высшей степени плодотворным. Первыми философами у нас были шеллингианцы, увлечённые натурфилософией и эстетикой" (2001, с.515-516). Солидаризуется с Бердяевым и С.Л.Франк: "Самостоятельная русская религиозная и философская мысль возникает в 30-х годах 19-го века; поскольку рождение и развитие мысли поддаётся вообще причинному объяснению, это идейное движение было плодом более близкого ознакомления с западной духовной культурой, происшедшего в эпоху наполеоновских войн 1812-15 г.г. и в следующее за ними десятилетия" (1965, с.8). Однако русские мыслители (Бердяев и Франк) не правы, настаивая на определяющем значении западного внешнего фактора, "в высшей степени плодотворном" для процесса формирования русской философской атмосферы. Интенсивное импортирование в русскую среду идеологии коллективного человечества, - а именно этим качеством сильна европейская философская мудрость, - не дало и не могло дать благоприятного последствия, поскольку сгубила русскую идею в первоначальном варианте. Будучи добросовестным исследователем, Бердяев отметил факт ухода русской мысли на "тоталитарную", "религиозную и социальную" стезю, тобто Бердяев отметил, хотя это наблюдение не шло впрок его концепции генезиса русской философии, что, невзирая на мощный прессинг со стороны западной философии, русская мысль покинула философский путь и удалилась в политическую область, где разыгрывается нефилософская драма под названием "Запад-Восток" - тоталитарная, религиозная и социальная. С другой стороны, это должно означать, что петровская коллизия не доросла в духовном плане до окончательного итога, а разрешилась в политическую конфронтацию западников и славянофилов, где по определению не может быть условий для русской идеи. И какие бы формы не принимали воочию отношения западного и славянофильского лагерей, они неизменно остаются видами конфликта и конфронтации, единственно в силу того, что изначально лишены философской основы, а потому даже в их согласованных взаимоотношениях невозможно истинное философское взаимопроникновение, а только эклектические связи либо произвольная подгонка одного под другое. Из подобной реально совершившейся и рационально зримой исторической картины трансформации петровской коллизии во внутренне противоречивое насыщенное политическое движение, следует тот чисто рациональный вывод, что русская идея не имеет преемственности в петровских реформах. Однако с точки зрения дуалистической духовности выступает иной общий вывод, который касательно русской идеи и генезиса русской философии утверждает наличие коренного противоречия двух подходов, - это суть главное умозаключение в духовном порядке русской мысли. Отсюда вытекают следствия основополагающего статуса: при одном, философском, духовном, подходе русская идея зачинается совместно с русской философией в недрах петровского новаторства как особый духовный результат; в случае другого, политического, подхода духовная подоплёка петровской коллизии трансформируется в политическое противостояние западников и славянофилов, а возникновение русской философии, равно как русской идеи, необходимо искать где-то на редутах этой борьбы. При этом опосредуемая философия может иметь, соответственно природе своего генезиса, вид народнической идеологии, аналогично русская идея приобретает именно ту коллективистскую форму, какая первоначально была дана Соловьёвым и Бердяевым. Очевидно, что духовная судьба петровских реформ в той или иной мере связана с общедуховным состоянием мыслящего слоя России на тот период. Здесь негативным образом сказалось полное отсутствие аналитико-исторического опыта русской мысли, - печальное наследие многовекового татарского ига и феодальных междоусобиц русских князей. Отсутствие отечественной мыслительной традиции, которое стало причиной непонимания духовно-философских основ и принципов западного воззрения, самодержавно внедрённого Петром в застойно-патриархальный русский быт, наряду с незнанием сути синтеза исконно-наследственной русской духовности с инородным телом, лишало русскую мыслящую душу средств индивидуальной защиты, а не только способов критического анализа, перед лицом мощной, бурлящей активностью, разноликой и разнокалиберной духовной субстанцией Запада. Перед российской генетической духовностью возникла реальная угроза быть поглощённой бурными потоками западного интеллекта, как это произошло с прибалтийскими и балканскими славянами. Убедиться в этом позволяет мысль поразительного русского философа П.Я.Чаадаева, если к его словам отнестись как к свидетельству исторического наблюдателя, а не выводам мыслителя о состоянии первичной духовной сферы русского Востока перед встречей с Западом: "Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разумения, и исказили всё, что сообщило нам это совершенствование. Во всё продолжение нашего общественнаго существования мы ничего не сделали для общаго блага людей; ни одной полезной мысли не возрасло на бесплодной нашей почве; ни одной великой истины не возникло из-среди нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь" (1972, с.12). Но мало кто из современников, а, тем более, потомков, Чаадаева увидели в этом беспощадном обличении скрытую тоску русского ума, понимающего, что собственная уникальность имеет меру, за чертой которой таится погибель и самогубство, и отсюда страстный призыв и предостережение: "ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке". В связи с этим Чаадаев написал: "я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо" (1991, с.52) и выразил своё чаяние, безоговорочно соотнесённое с задачей, поставленной Петром перед Россией, а воспринимая эту задачу в духовной координации, Чаадаев смог стать первовестником русской духовной философии. |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:26 |
|
Но официальная аналитика отказывается присудить лавры первооткрывателя П.Я.Чаадаеву, чаще всего слышатся имена А.С.Хомякова и И.В.Киреевского. Родоначальником русской философии С.Л.Франк называет И.В.Киреевского, а Н.О.Лосский замечает, "...что Киреевский многое сказал о правильном методе достижения истины, но не разработал какой-либо системы философии. Он оставил после себя только фрагменты ценных идей, которые лишь частично нашли свою разработку на более позднем этапе развития русской философии и ещё ждут своего дальнейшего развития" (1991, с.39). С таким же мнением выступает и Бердяев: "Программа самостоятельной русской философии была впервые начертана Ив.Киреевским и Хомяковым" и в качестве примера приводит отрывок из программной статьи И.В.Киреевского, отмеченной печатью истинного глубокомыслия: "Как необходима философия: всё развитие нашего ума требует её. Ею одною живёт и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займёт от неё изящество стройности. Но откуда придёт она? Где искать её? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть проявлением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного бытия". Утверждение Киреевского о генетической связи "нашей" философии с "нашей" жизнью доводит его программу до уровня целевой установки, а суждение о невозможности немецкой философии в этих "наших" условиях звучит упрёком многим русским аналитикам, особенно Н.А.Бердяеву. И, тем не менее, Киреевский не знал, где искать "нашу философию", хотя у него содержится здравое соображение, имеющее опосредованное отношение к сему предмету: "Россия не блестела ни художественными, ни учёными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно и не принимая чужого влияния, основанного на ложном взгляде и потому враждебного её христианскому духу. Но зато в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств; в ней собралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам" (2004, с.140). Бердяев продолжает: "Характерно, что Ив.Киреевский хочет вывести философию из жизни. Хомяков утверждает зависимость философии от религиозного опыта. Его философия по типу своему есть философия действия. К сожалению, Ив.Киреевский и Хомяков не написали ни одной философской книги, они ограничились лишь философскими статьями. Но у них была замечательная интуиция" (2001, с.629). Интуиция А.С.Хомякова не оценена по достоинству по настоящее время, хотя этому замечательному деятелю русской культуры посвящена немалая литература, и он представляет собой более значительное явление, чем то, что числится за ним в истории русской общественной мысли в академической редакции. Хомяков первый дал публицистически развёрнутое определение того, что впоследствии получило название "народничества". Словами своего сценического персонажа Тульнева Хомяков провозглашает: "Вникните во всё, что мы говорим, и вы не только признаете, что народное воззрение возможно почти во всех науках, но ещё признаете, что никакое другое воззрение невозможно, а возможна только безнародная слепота (что нами и доказывается с успехом)" (1955, с.157). В этом пассаже отсутствует философское проникновение, что характерно в целом для мыслительной операционалистики Хомякова, которая обладает не столько дискурсивным (доказательным), сколько дескриптивным (описательным) характером, а его аргументация принадлежит к разряду argumentum ad hominem (посредством внушения и уговоров). Хомяков представляет "народное воззрение" в качестве повсеместной силы в обществе. В назидательной пьеске "Разговор в Подмосковной" Хомяков, используя форму традиционных философских диалогов, выставляет основной вопрос "народного воззрения" и даёт его идеологическое решение: "- З а п у т и н: А работа собственного, личного труда? Вы её ставите ни во что? - Т у л ь н е в: Именно ни во что. Жизнь личная, отвлечённая от общества народного, сама по себе, так малообъёмистая, что она не может переработать в одно целое материалы, доставляемые ей великими личностями - народами". По ходу сценического диалога резонёр Тульнев определяет принцип сосуществования народа и человека: "но человек, воспитанный в народности, растёт и крепнет, разумно богатится всем богатством человеческого мышления, законно расширяет её прежние пределы, а иногда доходит до законного отрешения от её ненужных случайностей. Впрочем такое отрешение всегда опасно, даже когда оно является, как дело невежества" (1955, с.с.153-154,161-162). Таким образом, основной вопрос декларируемого им "народного воззрения" Хомяков решает чётко и однозначно: это - безусловный примат народного над личным. И на основе этого решения Хомяков, не пользуясь какими-либо доказательствами, а опираясь на свою незаурядную интуицию, выставляет данный безусловный приоритет в качестве общественного идеала русского гражданского состояния, когда русское общественное мнение приобрело на него право. По настоящее время русская общественность пользуется хомяковской интуицией народа как общественного идеала и история русской общественной мысли в долгу перед скромным русским писателем за этот подвиг. Утвердив приоритет народного над личным, Хомяков, естественно, отвергает индивидуальный фактор ("работу собственного, личного ума") и потому, находясь вследствие этого не в философской, а в политической сфере, где законодательство осуществляется коллективными величинами, спонтанно замещает параметр "духовность" на конструктивный адекват коллективной природы - "народность". Совершенно непроизвольно в итоге из хомяковской интуиции в осадок выпадает концептуально важное отношение духовность-народность. Но это не всё, и даже не самое главное. Не случайно интуиция Хомякова увлекла его в поле предикации православной церкви и он считается также выдающимся православным богословом и теософом. Из числа неординарных теософских суждений, следующих из его смелых рассуждений, должно указать на ту сентенцию, от которой всеми силами открещиваются ведущие деятели обеих полюсов - европейского и русского, материалистического и идеалистического: в свою материалистическую систему народа Хомяков включил церковную догматику на правах равноправного члена материалистической парадигмы. Хомяков утверждал: "Св. Писание относится к человеку, как всякий другой предмет к субъективному разумению. Для Церкви, единицы органической и разумной, это отношение есть отношение внутреннее, иными словами: отношение объекта к субъекту, которому объект служит выражением, отношения человеческого слова к человеку, его произнесшему. Такое отношение ставит объект вне и выше всякого сомнения" (цитируется по Н.О.Лосскому, 1991, с.55). Превалирование объекта над субъектом, - у Хомякова, объекта над сомнением (мыслью), - есть ключевой закон материалистического порядка вещей, а потому Хомяков с полным основанием уравнял "церковное" с "народным", а точнее, узаконил народное содержание в православной церковной субстанции, и термину "народность" дал чисто православную конкретику - соборность; другими словами, секулярную народность ввёл под корень сакральной соборности. Русские духовники с присущей им тщательностью осмотрели сей предмет и, как было сказано, создали для соборности духовную формулу "мы", однако упустили политическую сторону соборности, а именно она составляет суть природы явления. Европейские мыслители и богословы, героически насаждая образ Всеобщей Сущности или Единого Внешнего Бога, также стоически не желали замечать, что они боготворят основной материалистический закон о верховенстве внешнего начала, а потому их представления об идеальном, христианском, божественном сплошь и рядом зиждется на ложном, неидеалистическом, а материалистическом, основании... В противовес этому А.С.Хомяков открыто объявил, что церковная схоластика в своём отношении к истинно идеальному и подлинно религиозному принципиально не отличается от правоверно материалистического духопорядка, являясь его составной частью, а потому православие пронзает все поры русского народа, а соборность являлась одно время даже государственностью (новгородское, псковское, вятское вече, Запорожская Сечь) Вытеснение из церковной догматики одухотворённого, божественного и идеального элемента грубо материальными детерминаторами, по мысли Хомякова, обязано слабости первого и закономерного усиления второго. Эту тонкую, не всегда уловимую, мысль Хомяков излагает в блестящем публицистическом стиле: "Конечно, все истины, всякое начало добра, жизни и любви находилось в церкви, но в церкви возможной, в церкви просвещённой и торжествующей над земными началами. Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле. Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была тёмною и бессознательною, но деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазнительный, но обречённый на гибель, мир католицизма и реформаторства. Иная была судьба церкви восточной. Долго боролась она с заблуждениями индивидуального суждения, долго не могла она успокоить в правоте веры разум, взволнованный гордостью философии эллинской и мистицизмом Египта или Сирии. Прошли века, уяснилось понятие, смирилась гордость ума, истина явилась в свете ясном, в формах определённых; но промысел не дозволил Греции тогда же пожать плоды своих трудов и своей прекрасной борьбы. Общество существовало уже на основании прочном, выведенном историей, определённом законами положительными, логическими, освящённом великою славою прошедшего, чудесами искусства, роскошью поэзии; и между всё это - история, законы, слава, искусство, поэзия, - разногласило с простотой духа христианского, с истинами его любви. Народ не мог оторваться от своей истории, общество не могло пересоздать свои законы; христианство жило в Греции, но Греция не жила христианством" (2004, с.121-122). Непроизвольно, но и неизбежно, Хомяков влил в соборность историческое достояние не только русского православия, но и русского народа, создав в его лице конденсат прошлых знаний и заслуг, удерживаемый сохраняющим духом духовности. Таким образом, для народа, взятого как общественный идеал русского общежития, Хомяков создал положительный утвердительно-сохраняющий образ, который впоследствии выкристаллизовался в знаменитую триаду: православие-самодержавие-народность. Следовательно, автором этой триады следует чтить отнюдь не графа С.С.Уварова, как принято в академической историографии, а самостоятельное народническое движение создало её в себе, как формулу, воплощающую общественный идеал народа в данном течении, которую последовательно и с блеском поставляли русской общественности такие незаслуженно забытые и неправедно осуждённые деятели, как обер-прокурор Святого Синода К.П.Победоносцев (1827-1907) и Л.А.Тихомиров (1852-1923). Благодаря Хомякову русское народничество приобрело типичную политическую содержательность, конструктивно опирающуюся не только на реальные исторические приобретения русского общественного развития, но и заимевшую весомую перспективную установку: по Хомякову: "...что такое народ - единственный и постоянный действователь истории" (1955, с.109). В комментарии к работе А.С.Хомякова "О старом и новом" И.С.Андреева написала: "А.С.Хомяков был одним из создателей славянофильства, которое начало активно формировать русское национальное самосознание, поставив вопрос о том, что такое Россия, в чём её сущность, призвание и её место в мире" (А.С.Хомяков, 2004, с.464). Если в отношении славянофильства Хомяков "был одним из созидателей" его, то, по духу своего гражданского пафоса, Хомяков являлся первоавтором русской идеи в соловьёвско-бердяевской редакции. Особенность становления русской общественной мысли, не увиденная маститой исторической аналитикой, заключена в том, что, имея народ в качестве своего идеала, она обладает двумя источниками зарождения. Хомяковская соборность и уваровская триада лежат в основе одного течения народничества, которое сосуществует с функционально иным политическим макетом, также провозглашающего коллективистскую ёмкость народа высшей ценностью и также называемого народничеством. Исследуя историю русской общественной мысли, Н.А.Бердяев видит её истоки в А.Н.Радищеве и считает его "первым русским интеллигентом", - как он пишет: "Слова Радищева: "душа моя страданиями человеческими уязвлена была" конструировала тип русской интеллигенции" (1990, с.19). "Страдания человеческие" для Радищева исходили из крестьянской среды и на сочувствии и сострадании к русскому народу определялось отношение к нему части русского дворянства, а книга А.Н.Радищева "Путешествие из Петербурга в Москву" была первым залпом по крепостному праву как социальному устройству, в каком пребывал в тот момент русский народ. Радищевские "страдания", таким образом, являлись вторым источником, давшим народ как общественный идеал, а, будучи отрицанием крепостного права как недостойного человеческого существования, эта идея народничества относится к разряду отрицательного знания, и в этом полагается её основное принципиальное отличие от соборной (утвердительной православно-самодержавной) народности (часто оно называется религиозным народничеством). Субъектом-носителем отрицательного народничества служит русский интеллигент, какой по своей природе и происхождению являет собой поразительную акцию: русский интеллигентный дух есть протестантизм русского дворянства. Бердяев писал: "Ни один народ Запада не пережил так сильно мотивов покаяния, как народ русский в своих привилегированных слоях. Создался своеобразный тип "кающегося дворянина". "Кающийся дворянин" сознавал свой социальный, а не личный грех, грех своего социального положения и в нём каялся". "Грех социального положения" - такую перцепцию не переживало никакое другое дворянство, кроме русского, и это стало причиной появления русской интеллигенции, или, как оно называлось в начальные периоды, разночинной интеллигенции. Бердяев утверждал: "Чувство вины перед народом играло огромную роль в психологии народничества. Интеллигенция всегда в долгу перед народом и она должна уплатить свой долг. Вся культура, полученная интеллигенцией, создана за счёт народа, на счёт народного труда и это налагает тяжёлую ответственность на приобщённых к этой культуре" (1990, с.с.49,48). "Чувство вины перед народом" и "раскаяние" - таковы своеобразные формы протеста против несправедливого устройства народной жизни, какие возникли в дворянской среде и привели к установлению отрицательного народничества, как общественно-политического движения; важно разъяснение Бердяева: "Народническая идеология возможна была лишь в крестьянской, сельскохозяйственной стране. Народническое миросозерцание есть мировоззрение коллективистическое, а не индивидуалистическое. Народ есть коллектив, к которому интеллигенция хочет приобщиться. Войти в него" (1990, с.49). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:27 |
|
Будучи отрицательной логией, тобто осенённое демоном разрушения, отрицательное народничество было реальным отвержением государственного строя, а заодно и противоположного положительного (религиозного) народничества, и потому, неся в себе откровенно политические цели и проповедуя коллективный гегемонизм народа, оно должно быть типичной политической партией, группировкой или даже сектой. Не устраняясь от своей политической мотивации, русское народничество в отрицательной модификации, однако, не имеет политической организации, а даже наоборот: оно насквозь пронизано философским глубокомыслием и обладает некоторыми критериями полновесного мыслительного комплекса. Такое оказалось возможным благодаря уникальному дарованию Виссариона Григорьевича Белинского, гению которого интеллектуальное русское сословие обязано созданию настоящего учения о народности, устранившего многочисленные догадки и двусмысленности. К примеру, основной тезис концепции народности о роли человека, данный Хомяковым откровенно слабо через художественную дидактику своего героя Тульнева, Белинский превратил в насыщенную сентенцию, выставив её argumentum baculinum (палочный аргумент, решающий довод): "Сколько на свете умных людей, и между тем, у каждого из них свой ум. Это не значит, чтобы умы у людей были разные: в таком случае люди не могли бы понимать друг друга; но это не значит, что у самого ума есть своя индивидуальность. В этом его ограниченность, и поэтому ум величайшего гения всегда неизмеримо ниже ума всего человечества; но в этом же и его действительность, его реальность". Отсюда следует вывод философского звучания: "Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народности суть личности человечества" (1948, с.с.875,876). Опосредуя "идею человечества", тобто центральную концепцию западной философии, которая на тот момент только формировалась, Белинский самостоятельно подошёл к этой идее и. что главное, с русской стороны - со стороны личности. Белинский настолько полно охватил предмет "народность", что целиком затмил противоположное соборное толкование народности, и, если в уваровской триаде "народность" стоит на третьем месте, то у Белинского она единственная и включает в себя всё остальное, становясь всеохватным мировоззрением. Благодаря Белинскому под "русским народничеством" стали понимать только данную отрицательную модель и её отрицающие моменты (как-то: нигилизм, анархизм, терроризм, большевизм) превратились, как у Н.А.Бердяева, в самостоятельные эпизоды истории русской общественной мысли, тогда как положительная разновидность как бы покинула территорию народности. Бердяев возвещает: "Белинский - центральная фигура в истории русской мысли и самосознания ХIХ века" (1990, с.35), - это случилось в немалой степени за счёт абсолютизации вплоть до опоэтизирования понятия "народность": "Волшебное слово, таинственный символ, священный гиероглиф какой-то глубокозначительной, неизмеримо обширной идеи, - "народность" заменила собою и творчество, и вдохновение, и художественность, и классицизм, и романтизм, заключила в одной себе и эстетику, и критику". Свою программную статью "Общая идея народной поэзии" Белинский начинает словами: "Народность есть альфа и омега эстетики нашего века, как "украшенное подражание природе" было альфой и омегой эстетики прошлого века. Высочайшая похвала, какой только может в наши дни удостоиться поэт, самый громкий титул, каким только могут теперь почтить его современники или потомки, состоит в слове "народный поэт" (1948, с.286). В этой гегемонизации принципа народности полагается начало роковой роли института русского народничества в русской истории, культуре и философии. Возвеличивание народа доведено Белинским до культовых высот, где место Бога принадлежит народу. А это означает, что в учении народности Белинского заложены истоки русского атеизма, и потому безбожие есть отличительный признак разночинной интеллигенции. При этом важно, что формула русского атеизма - глас народа - глас Божий - взята Белинским из анналов соборной народности. Итак, атеизм является водораздельным хребтом, разделившим русское народничество на два таксона: народность державников или народность соборной формации (религиозное народничество) и народность демократов или народность политической формации. Последнее, начатое Белинским, исторически развилось в особое движение, представители которого назывались советскими аналитиками революционными демократами. Это течение неуклонно следует от Белинского к мощной когорте, образованной Н.Г.Чернышевским, Д.И.Писаревым и Н.А.Добролюбовым, и далее в систему воинствующего материализма В.И.Ульянова-Ленина. То, что Белинский представляется особым явлением в русской культуре, - есть трюизм, признаваемый всеми, но непростительно было упущено, что Белинский есть исключительный казус даже среди уникумов философской мысли, ибо ни у какого мыслителя нет присущей ему способности к самоотрицанию, тобто к непоследовательности и резкому переходу от одной истины к противоположной в объёме одного суждения. Белинский высказывает: "Каждый человек сам себе цель..." и этим предваряет В.И.Несмелова, который через эту посылку проникает в личность, то есть в самое идеалистическое логово; но Белинский проницает ещё глубже и хочет знать то, что, впрочем, положено знать каждому идеалисту, - какая цель делает человека человеком и какая цель нужна личности. Белинский продолжает данное высказывание: "...назначение каждого человека - развивать в себе всё человеческое, общее и насладиться им". И из идеалистических глубин Белинский выныривает на материалистическую поверхность, ибо понятие "общее" он делает материалистическим знаком. Принадлежность идеи, как духовного итога, человеческому роду, есть не более, чем смелая гипотеза Фихте, но Белинский находит сверхгениальный способ материализации идеи через общее. В продукте духа - идее Белинский обнаруживает нечто такое единое, что обладает способностью соединять духи в материальную скупщину, давая им условия существования. "Что такое "общее"? - спрашивает Белинский и отвечает: - сущность всего сущего, единство всякого разнообразия, душа вселенной, начало и конец всего, что было, есть и будет, словом идея". Материалисту Белинскому нет дела до того, что в первопричине данного материалистического события, тобто в единении "всякого разнообразия", полагается дух и идеальное создаёт условия материального существования. Со своим открытием он устремляется в материю, в природу и находит полные образы "общего" - роды и виды: "Итак, вот уже мы и нашли в беспредельном многоразличии природы то, что в ней должно называться общим. Если сообразить, что род, как идея, совокупляет в себе бесчисленные признаки, равно общие множеству предметов, выражающих его, - то слово "общее" уже никому не может казаться произвольным или странным" (1948, с.с.300,298). В отрицании субъекта личности Белинского нельзя уравнивать с Фихте, Фейербахом, Шопенгауэром, Марксом и в его философском катехизисе фигура индивидуальности занимает немалое место, но, вместе с тем, у Белинского более, чем у этих мыслителей, авторских прав на концептуальную сердцевину европейской концепции человека - идею человечества; так что русский философ может быть причислен к данной концепции. А с другой стороны, в толковании смысла и содержания "общего" Белинский излагает доктринальные моменты, когнитивно входящие в круг "всеобщего нравственного" русских духовных философов; так что и русская концепция может найти в наследии Белинского свои истоки. В результате народность стала самой стойкой русской философской религией во главе с Богом-народом и верой-волей народа. Обожествление народа, фетишизация толпы, идеализация соборности, пафос коллективизации, все эти ритуальные службы народности слились в одну торжественную литургию, первую партитуру которой написал А.С.Хомяков. В исторической доктрине народности оказались растворёнными и фактор личности и фактор духовности, а на общественной арене остался лишь один "действователь" - коллективистский демиург с тираническими наклонностями и диктаторскими манерами в отношении реальной живой и действующей субстанции - человека. Это внушительное сооружение народности Белинский достраивает ещё верхним этажом - представлением о национальности, по существу, стянувшим на себя все соки идеи и ставшим своего рода центром кровообращения народнического организма. В основу концепта национальности Белинский кладёт, по существу, априорное допущение: "Человек силён и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь - национальность. ...но человеческое, тем не менее, приходит к народу не извне, а из него же самого, и всегда проявляется в нём национально". И хотя данное допущение выглядит достаточно произвольно, ибо не органическая связь общества с национальностью, ни проявление человеческого через национальное не являются логически обеспеченными суждениями, Белинский не предпринимает даже попытки придать им что-либо более, чем argumentum ad hominem (аргумент внушения). На этих основаниях национальность превращена Белинским в сквозной стержень, связывающий все главные действующие органы концепции: во-первых, "Без национальностей человечество было бы мёртвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения"; во-вторых, "Что человек без личности, то народ без национальности"; и, в-третьих, "Великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ" (1948, с.с.876-877,876,877). Итак, признак, который не принадлежит человеку имманентно, а достаётся ему автоматически, не требуя каких-либо усилий с его стороны, не производится личностью, не становит её внутреннюю потребность, а как всеобщее внешнее нечто накрывает людей, делается русским мыслителем основным условием их существования в общности. Национальность не считается с духовностью, но и духовность безразлична к национальности, ибо последняя в данной действительности не более, чем регистрационная величина акциденциального свойства. Но именно как внешнее, максимально общее, национальность в концепции Белинского поглощает в себе и народность, и духовность, не давая вместе с тем никакого нового качества этому внешнему; национальность - пустое содержание. Основанная на национальности, как на своём фундаменте, любая идея делается бессодержательной и узко ограниченной единственно по причине того, что в рамках народности национальность изъята из поля предикации духовности. Для духовности национальность в народническом ведущем качестве внешнего представляется побочной наружностью, а в чисто духовном континууме действует не национальность, а законодательно выступает язык. Язык является наиболее активным атрибутом духовности, через который она выставляет свою сущность и своё право на существование; язык суть мессия духовности и его функциональные возможно настолько безграничны, что через язык духовность обеспечивает себе бессмертие. Ни масса, ни толпа, ни народ не обладают языком, языком владеет только индивидуум и говорить можно только индивидуально. Столь необозримые возможности и веления языка обязаны исключительно одной причине: язык есть средство общения и в общении скрыта природа языка. "Глаголом жечь сердца людей" - это самая ёмкая формула языка в его генетической имманентности быть связью духов, причём данной в такой форме, какой лишена любая материалистическая связь. Объединение индивидов составляет главное и единственное назначение языка и именно поэтому язык образует величайшую ценность духовности. Там и тогда, где язык сеет раздоры и, способствуя неприязни, вызывает разобщение, там и тогда, явно или неявно, прямо или косвенно, сразу или со временем, появляется индивидуальная фигура национальности; этому нет разумного объяснения, но эмпирически это правило не знает исключений. Национальность grosso modo (в широком плане) есть торговая марка языка и в этом её ценность. Значимость национальности, таким образом, раскрывается в соотношении с языком, - если национальность ставится в отторжение от главной функции языка, то она имеет значение не более, чем слинявшая змеиная шкурка, но в русле духовного контекста языка у национальности высвечивается удивительное свойство: национальность есть плоть от плоти собственность духовности, её имманентная черта, призванная создавать колорит духовности и предназначенная в качестве декоративного средства для красоты духовности; национальность материализует в духовности то, что вовсе неизвестно в политическом материализме - Красоту (св.Софию, по определению русских духовников), а это значит, что национальность в её истинном значении не имеет отношения к материалистической (политической) народности. Судьбоносный русский конфликт славянофилов и западников, который в действительности является искусственно раздутым противоречии народности и духовности, в той или иной мере вливается в национальное русло как концептуально обусловленную форму народности. В силу того, что для национальности при этом предусмотрены несвойственные функции, возникают условия, благоприятствующие появлению ложных общественных идеалов и всегда чреваты деструктивными процессами и намерениями. Ложность идеала славянофилов, погружённых в мечтания о допетровской старине, А.И.Герцен определил одной фразой: "Времена Петра, великого царя, прошли; Петра же, великого человека, нет более в Зимнем дворце, он в нас" (1948, с.347); ложность идеала революционной демократии, она же - разночинная интеллигенция, разоблачена Н.А.Бердяевым: "Белинский предшественник большевистской морали" (1990, с.34). Воззрение революционных демократов, которые появились на русской общественной сцене, по мысли В.И.Ульянова-Ленина, в результате смены дворян типа Радищева на разночинцев типа Белинского, можно назвать философией только при некритическом отношении к терминологической строгости понятий, а в действительности, будучи по роду плоть от плоти русского народничества, оно явилось производным коллизии народность-духовность, где первый член непомерно возвеличен в ущерб второму. Революционные демократы не могли создать самостоятельной философской системы, ибо в мышлении придерживались догмы, по словам Бердяева, "...всегда тоталитарной по постановке проблем, всегда соединяющей теоретический и практический разум, всегда окрашенной религиозно" (2001, с.631) (Бердяев утверждал, что "Русский атеизм... есть религиозный феномен"). И только система В.И.Ульянова-Ленина была сотворена на произвольном и неестественном сочленении философии и политики, и Бердяев был прав, заявляя, что в ленинизме "...Маркс был соединён со Стенькой Разиным". Итак, русская идея есть многочлен, несущий в себе в свёрнутом виде множество составляющих (духовность, народность, соборность, религиозность, атеизм и прочая), а потому в объективной истории русской философии русская идея отсутствует как идея, а наличествует как идеология, тобто как комплекс духовный уложений и параметров, обязанных общей целевой установке. Именно как идеологию преподносит русскую идею И.А.Ильин - последний из гордых трубадуров русской идеи. Ильин вещает: "Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе самим, Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру - из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом - смысл русской идеи. Эту национальную задачу нашу мы должны верно понять, не искажая её и не преувеличивая. Мы должны заботиться не об оригинальности нашей, а о предметности нашей души и нашей культуры; оригинальность же "приложится" сама, расцветая непреднамеренно и непосредственно. Дело совсем не в том, чтобы быть ни на кого не похожим; требование "будь как никто", нелепо и не осуществимо. Чтобы расти и цвести, не надо коситься на других, стараясь ни в чём не подражать им и ничему не учиться у них. Нам надо не отталкиваться от других народов, а уходить в собственную глубину и восходить из неё к Богу; надо не оригинальничать, а добиваться Божьей правды; надо не предаваться восточнославянской мании величия, а искать русскою душою предметного служения. И в этом смысл русской идеи" (2004, с.410-411). Итак, в идеологическом исполнении Ильина русская идея много приобретает от идеологии русского народничества, но и лишается немало тенденциозного его догматизма. Совокупным итогом всего сказанного служит вывод, что русская идея как таковая органически не могла зародиться в таких разновидностях русского народничества, как революционная демократия и большевизм, но в то же время в русском народничестве имеются некоторые идеологические основания наличия русской идеи в первоначальном, соловьёвско-бердяевском, виде, где "смысл существования России" напрямую увязывается с натуралистическим учением о народностии национальности. Но русская идея как извещение о специфически-русских качествах человеческого духа, а именно: русской концепции человека и идеологии Богочеловечества, принципиально невозможна в среде русского народничества, как в соборном положительном, так в интеллигентском отрицательном образованиях. Причина таится тут в пренебрежении духовностью и унижении индивидуального в концепции русского народничества, но вряд ли эта, казалось бы, ясная и однозначная, причина достаточна для понимания проблемы генезиса русской идеи. Сущность материалистического миростояния держится отнюдь не на исключении духовности, а не непреклонном главенстве материального над духовным: в монополизме материи в главном отношении материя-сознание и в верховенстве народности в иерархически более мелком отношении народность-духовность. Следовательно, нет такого отношения, где полностью отсутствовала бы духовность, и не народность суть причина отсутствия русской идеи, а отсутствие русской идеи определяет наличие народности как приниженный вид духовности. А потому можно сказать, что подобная народность как русский вариант материалистической парадигмы, суть особая разновидность духовности, и её отличительным типическим признаком служит отсутствие в ней русской идеи. И поскольку русская идея мыслится в контексте русской духовности, а речь идёт об историческом отрезке екатерининского века, знаменательном мощным подъёмом духовной энергии русского общества, то спонтанно возникает фигура колоссальных масштабов - Александр Сергеевич Пушкин. В данном случае эта личность приобретает достаточно своеобразный, необычный для пушкинистики, философский ракурс: так как русская философия исторически сплетена с самобытной русской духовностью, гениальным творцом которой общепризнанно является Пушкин, то его роль в становлении русской философии не может быть незначительной или малозаметной; в духовном даровании Пушкина искать истоки русской духовной философии и генетические корни русской идеи. Эта мысль подтверждается справедливыми наблюдениями С.Л.Франка, актуальность которых не исчезла с годами: "Пушкин был не только величайшим русским поэтом, но и одним из самых сильных, проницательных и оригинальных умов России, "умнейшим человеком России" (как определил его Николай I после первой встречи с ним); но, странным образом, несмотря на огромную литературу "пушкиноведения", идейные воззрения Пушкина остаются доселе мало исследованными или во всяком случае недостаточно оценёнными" (1957, с.94). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:28 |
|
Пушкинская тема в русской философии вовсе не есть эстетическое направление в мыслительном творчестве, а, напротив, она определяет общий объём духовного наполнения этого "умнейшего человека России", формой выражения которого служит эстетический жанр: не поэзия через философию, а философия через поэзию, - таково содержание пушкинской темы в данном ракурсе, таков мой Пушкин. В такой плоскости речь может идти не просто об "идейных воззрениях" Пушкина, а об его осмыслении основ миробытия, о философии его творчества, которая силой объективных исторических обстоятельств оказалась живородящим семенем русской философии. Достойно удивления, что эта философская "особенность" пушкинского духа как бы находится на поверхности и на неё ссылаются многие аналитики, а больше всего современники поэта, но вникнуть в её сущность, тобто подойти к предмету по-философски, дано лишь немногим, и в их числе великому русскому философу С.Л.Франку, о котором будет сказано отдельно. Здесь же представляет интерес его характеристика пушкинского понимания народности: "Народность" означает для него своеобразие духовного склада народа. "Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию" - таково примерное определение "народности" у Пушкина (в незаконченном наброске "О народности в литературе", в котором он жалуется на распространённость слишком узких пониманий "народности"). Народность в этом общем смысле совсем не предполагает замкнутости от чужих влияний, обособленности национальной культуры. Напротив, субстанция народного духа, как всё живое, питается заимствованным извне материалом, который она перерабатывает и усваивает, не теряя от этого, а, напротив, развивая своё национальное своеобразие" (1957, с.97-98). Как видно, в контексте "народности", какой ясно присутствует в понимании, как поэта, так и философа, выступают признаки "духовности", а не монополизированного духа народа. Глава вторая. ПУШКИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ "Пушкин есть явление чрезвычайное; и. может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нём русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла". Н.В.ГОГОЛЬ 1. А.С.ПУШКИН "Моцарт и Сальери" Живучесть исторических легенд, основанных даже на вымысле, а зачастую сами являясь историческим вымыслом, обусловлена тем, что в каждом индивиде они затрагивают какие-то внутренние струнки или постоянно вносят в душу что-либо полезное или ценное. Этим обстоятельством широко пользуются создатели эстетических благ и превращают тонкие индивидуальные звоны в мощный общечеловеческий набат, внося в легенду своё творческое дарование, а не просто пересказывая первичный сюжет. С этого момента легенда начинает новую, уже вечную жизнь, но под знаком таланта мастера, - прекрасный пример тому служит легенда о докторе Фаусте или легенда о Тилле Уленшпигеле. Но нечто странное происходит с легендой о Моцарте и Сальери, опоэтизированной Пушкиным. Само содержание легенды просто и банально: бездарный музыкант из зависти отравил гениального композитора, - и оно может вызвать интерес только в том плане, что касается знаменитых людей. И первоначальный смысл легенды, по мнению знатоков-пушкинистов, был сохранён Пушкиным: злодей Сальери и жертва Моцарт. А поскольку оригинальный, тобто данный индивидуально автором, познавательный смысл ясно не выводится из трагедии Пушкина, то эстетическая ценность последней извлекается произвольно и самостоятельно, и чаще всего проигрывается рефрен - "гений и злодейство несовместны". Действительно, эта сентенция, произнесенная Моцартом невзначай, как бы мимоходом, занимает в трагедии некое центральное место, интуитивно вполне ощущаемое, но не раскрываемое в зримый художественный образ, в требуемую эстетическую истину. Эквивалент этой истины шествует уже второй век не менее, чем в качестве внешней моральной нормы или обязательного правила для гениев. Парадокс маленькой трагедии Пушкина заключён в том, что, не имея в себе индивидуальной авторской идеи и генерируя лишь тривиальную моральную норму, она не может быть другим, чем пересказом в блестящей поэтической форме обыденного для нашей жизни события, но, тем не менее, являет себя как большой шедевр, как художественная несомненная вечная ценность, внутренний статус которой не может определяться лишь через поэтическое изложение, как бы великолепно оно не было. В исторической же действительности Сальери не отравлял Моцарта, у Моцарта вообще не было коллизии с Сальери, и он ушёл из жизни по естественным причинам, - так почему же эта обывательская сплетня удостоилась внимания гениального поэта? Но прежде, чем отвечать на этот вопрос необходимо уразуметь мнение современников Пушкина, с одной стороны как величину непосредственного воздействия пушкинского слова, и точку зрения наших современников, с другой стороны, тобто с той стороны, где пушкинское слово обзавелось временем и прошло испытание историей. От лица первых должен выступать В.Г.Белинский, ибо более квалифицированного знатока русской поэзии просто не существует, но, главное, по причине того, что литературная критика у Белинского служит формой выражения философского сознания, и это даёт право рассматривать выступление Белинского как философскую оценку Пушкина. Пьеса "Моцарт и Сальери" Пушкина имеет подзаголовок "Зависть", и вот это-то чувство неприязни и вражды одного к другому за то, что один обладает тем, чего лишён другой, стало лейтмотивом всех критических оценок трагедии Пушкина. Но для зависти необходимо противоборство двух духовных начал и такую коллизию в "Моцарте и Сальери" Белинский усматривает в конфликте таланта и гения, откуда выводит идейное содержание трагедии: "Её идея - вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения". При этом важно, что данный конфликт Белинский разворачивает в целую идеологию, которой оценивается трагедийное творчество Пушкина в целом. Великий критик пишет: "Таков гений: затеяв дело, которое, по всем расчётам человеческой мудрости, не могло не казаться безумием, он доводит его до конца, торжествуя над всеми препятствиями... В чём состоит тайна этого успеха? В творческой силе, присущей организму гения, как инстинкт, - больше ни в чём! Гений часто действует инстинктивно, безумно - и всегда успевает, между тем как талант рассчитывает верно, соображает тонко, действует мудро, - все это видят и все одобряют его цель и средства, никто не сомневается в успехе, а между тем, глядь, - вся эта мудрость сама собою обратилась в безумие, и великолепное здание, воздвигавшееся с таким трудом, очутилось карточным домиком: дунул ветер - и нет его..." (1948, с.с.689,672) Талант, что берётся за роль гения, является главным конфликтом трагедии "Борис Годунов", а в трагедии "Моцарт и Сальери" основой коллизии выступает талант, что борется с гением. У Белинского сказано: "В лице Моцарта Пушкин представил тип непосредственной гениальности, которая проявляет себя без усилия, без расчёта на успех, нисколько не подозревая своего величия. Нельзя сказать, чтоб все гении были таковы; но такие особенно невыносимы для талантов вроде Сальери... Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта, но как непосредственная творческая сила, он ничто перед ним... Он не тому завидует, что Моцарт выше его, - превосходство он мог бы вынести благородно, - но тому, что он ничто перед Моцартом, потому что Моцарт гений, а талант перед гением - ничто...". Сальери убивает не под влиянием аффекта зависти, а идёт на преступление сознательно, как говорит Белинский: "Он знал себя, как человека, способного на злодейство, а между тем, сам гений говорит, что гений и злодейство несовместны и что, следовательно, он, Сальери, не гений" (1948, с.с.689-690,690) |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:29 |
|
В этом пункте сосредоточилось нечто большее, чем определённая критиком пушкинская эстетическая опция, - Белинский использует пушкинское поэтическое совершенство в качестве духовного аргумента своего философского гнозиса: если максима "гений и злодейство несовместны" исполняет основную идею трагедии, то главная мысль критического обзора Белинского выражается в идиоме талант и гений несовместны. Смысл данной идиомы положен вовсе не в общепонятном психологическом плане, где это противостояние выглядит даже нелепостью, а в высшей философской плоскости: гений - это откровение, озарение, инстинкт, вдохновение, а талант - это разум, рациональная сила, логическое сознание. Так Белинский вводит Пушкина в русло славянофильской философии, когда ещё в фаворе находилось разумное её начало о необходимости русского пути духовного развития, но уже тогда это начало поддерживалось резким противостоянием с Западом, полный образ которого олицетворялся в рационалистическом методе. Бердяев говорил о славянофилах: "Они борются с западным рационализмом, в котором видят источник всех зол. Этот рационализм они возводят к католической схоластике" (1971, с.43), противопоставляя ей православную религиозность русского народа. Через маленькую трагедию Пушкина Белинский хочет показать в образе Сальери талант "источника всех зол", способного на злодейство и бесконечно чуждого подлинной гениальности. И как олицетворение рационального Запада Сальери представлен "с замечательным умом, с способностью глубоко чувствовать, понимать и ценить искусство". Чутьём гениального критика ощущая философский подтекст пушкинской миниатюры, Белинский одержим стремлением подключить Пушкина к славянофильству как сугубо русской философии, но не набирает пушкинского материала для сконструированного философского образа Сальери. Белинский пишет: "И вот он твёрдо решается отравить его. "Иначе, - говорит он: - мы все погибнем, мы все жрецы и служители музыки. И что пользы, если он останется ещё жить? Ведь он не подымет искусства ещё выше? Ведь оно опять падёт после его смерти?" (1948, с.690). В оригинале же Сальери говорит с иной интонацией: "Нет! не могу противиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб его Остановить - не то мы все погибли, Мы все, жрецы, служители музыки, Не я один с моей глухою славой... Что пользы, если Моцарт будет жив И новой высоты ещё достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет; Оно падёт опять, как он исчезнет: Наследника нам не оставит он. Что пользы в нём?" Белинский пытается столкнуть талант и гений на почве зависти, - чувства мелкого и индивидуального, - но почему у Пушкина указано: "мы все, жрецы, служители музыки"; почему здесь фигурируют критерии искусства; о какой судьбе своей толкует Сальери; почему - "я избран, чтоб его остановить", коль речь идёт об обычной зависти? И, главное, какую опасность представляет Моцарт, творец гениальной музыки, для искусства, что его непременно требуется "остановить"? Картина коллизии Сальери и Моцарта, столкновения таланта и гения, нарисованная Белинским, исходя из чувства зависти, явно не выдерживает этих вопросов, а, следовательно, стремление критика поставить славянофильскую печать на пушкинском философском даровании, достаточно определённом в трагедии, не достигает цели и намерение Белинского не соотносится с глубиной авторского замысла. Итак, Белинский проницательно выявил главное в маленькой трагедии Пушкина: увидел в авторе большого философа, но не смог дойти до истинного содержания его дара. В этой плоскости гарантированным средством кажется обращение к современным толкованиям пушкинского шедевра; как сказал поэт: "Лицом к лицу, - лица не увидать. Большое видится на расстоянии", - расстояние во времени настолько велико, что возможно не только обозреть большой философский талант Пушкина, но и ощутить дух и масштаб эстетической эволюции русской литературы от своего зарождения до нынешнего уровня государственной культуры. В 1988 году в самом авторитетном советском публичном органе было опубликовано обширное эссе Татьяны Глушковой на тему Моцарта и Сальери, которое по объёму превосходит обозрение Белинского, а по содержанию составляет яркий образец принципа партийности в советской пушкинистики, и представляет собой наиболее удобный стереотип эстетики государственного соцреализма. Глушкова, само собой разумеется, разрабатывает традиционную схему: Сальери - злодей, Моцарт - жертва. Даже более того, - этот мотив она выводит в высшую тональность; зависть сама по себе не обязательно приводит к смертоубийству, для чего она должна превратиться в стойкую вражду и впоследствии перерасти в ненависть, которая уже более однозначно разрешается трагическим исходом. Образно, демонстрируя глубокое понимание предмета, Глушкова толкует о зависти: "Для убийства ей надобно пройти путь до ненависти, развиться в ненависть, не оставляющую места тому мучительному, непроизвольному любованию, которое допускает, а быть может, и предполагает зависть, гложущая прежде всего самого завистника!". Автор ошибочно определилась с титулом своей работы ("Чаша дружбы". Из притчи о Моцарте"): в притче Глушковой речь идёт о ненависти как целостном духовном конструкте, предметом которой по воле Пушкина стал Моцарт, а объектом-носителем Сальери, эссе Глушковой - это притча о ненависти. Ненависть здесь показана вовсе не с человеческой психологической стороны, как некая аффектация зависти, а как идеологический субстрат сюжета, предусмотренный принципом социалистического реализма в советском искусстве; ненависть, выходящая из классового противодействия в ленинской системе воинствующего материализма, спонтанно выявляется ведущим мотивом и в пушкинистики. Поскольку подобная сюжетная линия явно не прочитывается в фабуле пушкинского текста, то критик прибегает к оригинальному приёму - вольной, а точнее сказать. произвольной интерпретации незначительных и мелких сценических реплик, интонаций и нюансов и приписывание их авторству поэта. Так, Глушкова обнаруживает факт того, что Пушкин "...вообще не потратил на поведение Сальери ни одной ремарки, кроме: "Бросает яд в стакан Моцарта". Скудость авторских ремарок относительно Сальери прямо связана с образом действующего лица" и на основании этого следует развёрнутый психологический портрет Сальери, которым критик как бы "распечатывает" автора: "Сальери же вполне умещается в своих речах, вполне выражает и обнажает себя в словесном размышлении (как ни ложно и хитроумно оно порой), и нет нужды дополнять или комментировать его слова указаньем на жесты, позы, движения - кроме того главного а можно сказать единственного, движения, когда он "бросает яд в стакан Моцарта". Упрощённости характера, его сравнительной однолинейности соответствует и внешняя статичность его, которая способствует впечатлению мёртвенности героя, отчуждённого от многогранной, искрящейся, животрепещущей жизни" (с.223). В той же манере, исходя из брошенной по ходу диалога попутной реплики, выводится громоздкий художественный образ Моцарта и его основой послужили слова Моцарта: "Но дай, схожу домой, сказать Жене, чтобы меня она к обеду Не дожидалась". После чего следует: "И в этой его простоте важно не изъявление особых чувств к жене (которого, собственно, тут нет), но именно обыкновенность поведения: бытовая обыкновенность обыкновенного человека ("аккуратность", заботливость, внимательность к ближним) и - важнее того - нерассеянность гения, который легко держит в поле своего зрения, не забывая их, большое, пёстрое число разновеликих вещей. "Гуляка праздный", по широте и дисциплинированности своего сознания, ненапряжённо помнит (успевает вспомнить) и бытовой, домашний распорядок, соблюдая обыкновенья, хоть и малые обыкновенья, - подобно тому, например, как успел он, не забыл и успел отблагодарить "слепого скрыпача" по принятому у публики обыкновенью ("Постой же: вот тебе, Пей за моё здоровье"). Подобная нерассеянность, собранность равномерно внимательного сознанья отличает, едва ли не "автоматически", лишь педанта или же человека незаурядных сил ума, памяти, воли, дисциплины сознания. ...эта многогранность расточительно-нерасточительного, обнимающего обширные области внимания к миру не покидает Моцарта: она в своём роде равновелика самому дару творчества. Это ведь, в сущности, то же - творческое - внимание! Универсальное, могучее, трезвободрящее сознание, или неутолимое бережно-памятное внимание, отличает творческого гения вопреки обывательским легендам - тем же сказкам "тупой, бессмысленной толпы" - о "всеотрешённости" художника, который, сплошь "не от мира сего", неизменно пребывает в "заоблачном" витанье, чуждый обыкновениям, заботам земной будничности, "низкой жизни" или же "малой прозе" жизни заурядного, бытового человека" (230). Как же удобны подобные второстепенные реплики и ремарки, из которых можно получить, при умении, столь огромную информацию! Именно со стороны творческого метода знаменательна работа Глушковой, дающая полное представление о средствах литературной критики в сфере государственной (соцреалистической) культуры, и свободное обращение с авторским материалом показывает, таким образом, одно из таких действующих средств, которое, однако, не ограничивается исправлением и дополнением творца, а вторгается в композиционную часть пьесы и позволяет оперировать с несуществующими в оригинале действующими лицами, представляя их не как фоновые элементы, а как носителей некоего самостоятельного смысла, прямо участвующих в реализации идейного содержания. У Глушковой к таковой категории лиц отнесены тень Бомарше, жена Моцарта и Изора. Советский критик пишет: "Среди них обращает на себя внимание, конечно, Изора, противостоящая разом и жене Моцарта, и Бомарше... Это типично романтичная героиня, мрачно-романтическая, зловещая, неспроста стоящая рядом с Сальери: "моя Изора" (с.234). А имя Изоры Сальери упоминает всего два раза в своём знаменитом монологе в конце 1 сцены и, судя по смыслу монолога, лишь в качестве аллегории яда - "дар Изоры". Принцип действия недействующих лиц, по общей концептуальной композиции критического эссе Глушковой, слагает стержневую конструкцию метода произвольного обращения с авторским текстом, ибо очень удобен в том отношении, что, создавая иллюзию глубокого осмысления авторского замысла, даёт возможность воплотить в действительность желаемые смыслы. У Глушковой на этот счёт сказано: "Образы не действующих лиц пьесы достаточно символичны. Они выражают силы (тенденции) мира, стоящие за плечами главных героев, служат панораме всеобщей жизни, не исчерпываемой двумя главными полюсами (Моцарт-Сальери) при всей огромной напряжённости между ними, словно бы не оставляющей места для других, не столь крупных, разнозаряженных полей... Образы не действующих лиц, проясняя косвенно характеры главных героев, окружают их - не одиноких, а лишь выдвинутых на авансцену по причине наиболее ярко, сгущено явленных в них противоборствующих мировых сил" (с.234-235). |
|
|
isg2001 Академик Группа: Администраторы Сообщений: 12558 |
Добавлено: 14-07-2010 12:30 |
|
При всей лихо закрученной стилистике выражения, Глушкова ясно выговорила (скорее, проговорилась) главный интерес своего методологического подхода к Пушкину, а, соответственно, и центральную установку всего творческого метода в государственной (соцреалистической) культуре - противоборствующие мировые силы. В основе каждого сюжета необходимо должен находиться конфликт, разрешаемый тем или иным способом, но всегда по принципу "или-или", всегда в русле борьбы (классовой борьбы, борьбы противоположностей или борьбы за существование), и отсюда появились литературные суррогаты, сделавшиеся в советской литературе штампом и шаблоном: положительный герой и отрицательный герой. Определение конфликта, являющегося действующей пружиной в любой жизненной коллизии, а также противоборствующих его составляющих в лице положительного и отрицательного героев, выступает в государственной культуре своего рода литературным законом, но основной его метод - метод искусственного обращения с оригиналом, - который с таким блеском продемонстрировала Татьяна Глушкова в сфере литературной критики, вышел за пределы эстетического пространства и широко распространился и в области интеллектуального труда, попав под принцип партийности. Вольное, переходящее, как правило, в предвзятое, изложение мыслей и суждений других авторов, игнорирование прямого цитирования, которое в ряде случаев заменяется ловкими комбинациями отдельных изречений или перестановки авторских акцентов, - всё это хорошо знакомые и известные навыки из арсенала государственной культуры, которые, демонстрируя пренебрежение личностью автора, показывают тем самым приниженное состояние личности в материалистической парадигме человечества. Эта парадигма отвергает, а государственная культура возводит отвержения в разряд поведенческой нормы, что слово есть валюта мысли, а мысль есть интеллектуальная собственность творца и требует наипочтительнейшего отношения. Мысль может быть передана только словами творца. Любая передача мысли, кроме слов автора, искажается отношением передающего, а потому авторский оригинал и отношение к нему должен быть максимально отграничены, ибо ещё древним римлянам было известно, что "si duo idem dicunt, non est idem" (если двое говорят одно и то же, это не одно и то же). Итак, закрученная фабула маленького шедевра Пушкина выпрямлена Глушковой якобы в пушкинской плоскости в прямую чёткую линию: отрицательный герой Сальери против положительного героя Моцарта. У Глушковой Сальери раскрыт как патологический тип на почве всепоглощающей зависти, и он стремится к Моцарту как субъекту, дающему облегчающий исход этой страсти; этот исход Глушкова представляет психологически объёмно и профессионально убедительно: "Потому что живое ощущение Моцарта, непосредственное общение с ним порождает в Сальери, сверх (бессильной) зависти, активную, действенную ненависть - как видим мы это тут же в пьесе. Моцарт сразу становится для "Сальери гордого" смертным врагом, ненавистнейшим из ненавистных, "злейшей обидой", которая непреложно, немедля требует за себя кары, расплаты. Не ограничиваясь тайными муками беспомощной зависти и побуждая к изобретательности, коварству, дабы не упустить врага невредимым, живым: "Послушай: отобедаем мы вместе..." (с.226). Эта фраза из диалога Моцарта, сказанная по теме беседы между ними, играет в версии Глушковой настолько важную роль, что повторяется четырежды, поскольку содержит намёк на предусмотренное убийство: "Сальери - ещё до прихода Моцарта готовится убить его, и первый же монолог Сальери не отличается, в сущности, от показаний убийцы после совершённого преступления" (с.241). Ключевой момент драматургии Глушковой в отличие от Пушкина состоит в том, что Моцарт и Сальери никогда не были друзьями и мало знали друг друга, а обращение "друг" в пушкинском тексте не более, чем признак двуличия и лицемерия у Сальери и знак благосклонной доверчивости у Моцарта. Глушкова решительно исправляет Пушкина в этом пункте: "Развёрнутый Пушкиным сюжет отношений героев может быть прочитан так. С немалыми, кажется, основаниями прочитан не как давняя дружба с трагической развязкой её, а как лишь намечаемая Моцартом - которой вовеки не состояться в действительности! - дружба между не слишком близкими знакомыми, нечасто встречавшимися, хоть и с вниманием (а со стороны Моцарта - доброжелательностью) следившими, больше издали, друг за другом" (с.225). Моцарт не может быть другом Сальери, ибо он есть тот "злейший враг", которого Сальери искал всю жизнь, - "так" прочитывается, по версии Глушковой, монолог Сальери, который уподоблен показаниям убийцы. И Глушкова продолжает: "До встречи с Моцартом, прямого личного общения с ним, чувство Сальери в практическом проявленье своём пассивно, и отношение Сальери к Моцарту долго, неопределённо долго может оставаться бездейственным. Потому что его зависть, способная покуда лишь мучить его самого, не получает вдали от живого, во весь рост близко придвинутого к нему Моцарта должного "катализатора", неодолимого побудителя, который разом неудержимо взметнул бы её на высшую, напряжённую ступень, до предела воспалил бы её, выводя на широкую, неотвратимо прямую дорогу действия, дорогу пылающей ненависти, когда Сальери, уже задыхаясь от переполнившего его жгучего чувства, скажет, как выдохнет, как крикнет: "Нет! Не могу противиться я доле Судьбе моей: я избран, чтоб его Остановить..." (с.227). Таков портрет пушкинского Сальери, озлобленного, чуть ли не профессионального отравителя, выставляемый на всеобщее обозрение советским критиком во всём его поразительном отличии от образа, данного русским критиком. В диапазоне от таланта, тонко чувствующего музыку, до маниакального завистника запечатлелось время длительностью более 1,5 столетия жизни пушкинского Сальери, а в интервале от глубокого анализа Белинского до напыщенной бездарности Глушковой отметился когнитивный ход литературной критики в русской литературе, который нельзя назвать прогрессом, но он не является и регрессом, ибо на самом деле это суть резкий свал с одного познавательного уровня на гораздо более низкий, подпочвенный уровень. Это обстоятельство и вынуждает с такой тщательностью обозреть аналитику Глушковой, типично выражающей данный подпочвенный уровень русской литературы, именно тот уровень, который решительно противостоит образу моего Пушкина. Но глушковская рефлексия соцреализма, со своей стороны, противостоит в пушкинистики и аналитическому гнозису Белинского, а они оба не совместимы с моим Пушкиным, и в этом между ними проявляется методологическая связь, которая будет показана в разделе о политизации Пушкина. Татьяна Глушкова не могла не заметить, что в маленькой трагедии Пушкина все монологи, всегда являющиеся сценической формой самораскрытия персонажа, принадлежат Сальери, а Моцарт подан через диалоги, что, следовательно, пьеса написана о Сальери более, чем о Моцарте, и в литературно критическом прожекторе, направляемого Глушковой, это обстоятельство выставляет Пушкина певцом насилия. Данный вывод, вне побуждений автора, непосредственно исходит из её критического обзора пушкинской поэзии и также прямо свидетельствует о необходимости числить великого поэта в недрах той философии, где насилие обладает подавляющим духовным авторитетом, а иначе, приобщённым к большевистской идеологии. О целеустремлённости Глушковой именно в этом направлении нельзя сомневаться, отдавая должное настойчивости, с какой реализуется стремление ввести внутренний способ духовного общения пушкинских героев в мир противоборствующих, взаимно подавляющих друг друга величин, схема которого зиждется на насилии, вражде и зависти. Критик подытоживает свои усилия: "Так скрещиваются, перекрывают друг друга, ложатся одни вслед другому, один рядом с другим или поверх него разной силы и яркости образно-смысловые противоборствующие лучи во всей "маленькой трагедии" (с.235). Итак, попытки, предпринятые на полярных концах временного отрезка существования пушкинской миниатюры, познать сущность подспудной философии Пушкина не привели к позитивному результату; по-другому, этот итог можно сформулировать таким образом: потерпел неудачу метод критического анализа через конфликт противостоящих противоположностей, - талант-гений у Белинского, отрицательный герой-положительный герой у Глушковой. Ранее поставленный вопрос возможно конкретизировать уже в чисто философской плоскости: к каком философском освещении дана Пушкиным эта "обывательская сплетня", если материалистическая философия, взятая в лице Белинского в славянофильском виде, а в лице Глушковой - в большевистской форме, оказалась просто беспомощной? Бессилие материалистической идеологии для понимания пушкинского творчества и будет предпосылкой для ответа на этот вопрос, а в основу решения необходимо напрашивается подход, исключающий способ противопоставления положительного и отрицательного начал по методу "или-или", тобто заведомо отказывающегося от фактора насилия. Основания для подобного подхода, естественно, заложены в самой пьесе Пушкина и оказалось, что они таковы, что наяву проступили совершенно парадоксальные, то есть запрещённые, невозможные с позиций традиционного подхода, черты и грани художественного характера каждого из героев маленькой трагедии Пушкина. Первым в числе этих "запрещённых" черт стоит то обстоятельство, что Сальери у Пушкина выступает подлинным, истинным гением, тобто самобытной личностью в ореоле всех признаков, какие выставляют её в разряд не обыкновенных, а исключительных творческих натур. Сальери заявляет об этом в самом начале пьесы, как бы на своей презентации: "Родился я с любовью к искусству; Ребёнком будучи, когда высоко Звучал орган в старинной церкви нашей, Я слушал и заслушивался - слёзы Невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы; Науки, чуждые музыке, были Постылы мне; упрямо и надменно От них отрёкся я и предался Одной музыке". Сальери сызмальства проникся собственным предначертанием и, не отклоняясь, не заблуждаясь и не растрачиваясь в поисках собственного таланта, "ребёнком будучи", целиком отдался своему дарованию, - это и есть генеральные признаки истинного гения и другого, что могло бы отделить гения от ремесленника, просто не существует. Сальери трудится на свой талант, трудится тяжело, но проникает глубоко, не полагаясь на данную ему "искру Божью" и сделав труд и ремесло составной частью своего таланта: "Ремесло Поставил я подножием искусству; Я сделался ремесленник: перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху. Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию". И только после этого, - после проницания своего смысла и умения воплотить свой талант в труде, - Сальери стал творить: "Тогда Уже дерзнул в науке искушённый, Предаться неге творческой мечты. Я стал творить; но в тишине, но в тайне, Не смея помышлять ещё о славе". Однако и это ещё не всё, и даже не главное: помимо этих знаков, определяющих великое мастерство, но не гениальность per se, Сальери был осенён как раз высшим знамением гения - самокритичностью и самооценкой: "Нередко, просидев в безмолвной келье Два, три дня, позабыв и сон, и пищу, Вкусив восторг и слёзы вдохновенья, Я жёг мой труд и холодно смотрел, Как мысль моя и звуки, мной рождены, Пылая, с лёгким дымом исчезали". Поэтому Сальери владел и ещё одним бесценным качеством гения, - способностью учиться у других, обогащаться другими, общаться с другими: "Когда великий Глюк Явился и открыл нам новы тайны (Глубокие, пленительные тайны), Не бросил ли я всё, что прежде знал, Что так любил, чему так жарко верил, И не пошёл ли бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто заблудился И встречным послан в сторону иную?" Владея даром самокритики, Сальери способен дать себе беспристрастную и объективную оценку и подвести непредвзятый итог прожитой жизни: "Усильным, напряжённым постоянством Я, наконец, в искусстве безграничном Достиг степени высокой, Слава Мне улыбнулась; я в сердцах людей Нашёл созвучия своим созданьям. Я счастлив был: я наслаждался мирно Своим трудом, успехом, славой; также Трудами и успехами друзей, Товарищей моих в искусстве дивном". Так с первыми божественными звуками пушкинского перла на сцене является яркая фигура полнокровного творца, обладающего всеми золотыми гранями гения: умения творить, умения трудиться и умения учиться, - своим талантом и трудом добившегося достойного признания и заслуженного существования, - воистину "Я счастлив был". Чему же может завидовать такая личность? Знаменитые слова Сальери - "А ныне - сам скажу - я ныне Завистник. Я завидую; глубоко, Мучительно завидую", - которые он включил в ткань своей автобиографической повести, сделав тем самым это чувство жизненной компонентой, никогда не воспринимались иначе, чем через буквальный смысл. И никогда не возникал вопрос - чего лишён Сальери, чтобы так мучительно страдать от недостатка этого "чего", которое порождает зависть, понимаемую как выражение неприязни, недовольства, вражды к владельцу этого "чего"? |
| Страницы: << Prev 1 2 3 4 5 ...... 7 8 9 10 11 12 13 Next>> |
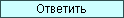
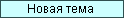
|
| Театр и прочие виды искусства -продолжение / Курим трубку, пьём чай / Пример для подражания. |