
 |
| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ] |
| On-line: |
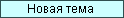
|
| Fefa |
[B] [COLOR=Red] Ксенофонт (Первые мастера тренинга и выездки)[/COLOR] [/B] Ксенофонт (430—355 или 354 г. до н. э.) был ярко одаренным древнегреческим писателем и историком. Ему принадлежит около 40 трудов на разные темы. О конном деле и руководстве кавалерией им написаны два трактата, из которых «Хиппике» содержит учение о верховой езде. Он не был профессионалом, но очень ясно, основательно и выразительно изложил взгляды своего времени, пользуясь не дошедшей до нас работой некоего Симона. Ксенофонт любил верховую езду и искусству хорошо ездить верхом обучил своих сыновей. В трактатах Ксенофонта изложены полезные и в наши дни его размышления об обращении с лошадью: «...никогда не теряй терпения, это лучшее, что тебе советовать... ничто насильственное не может быть красивым». В трактате он приводит слова Симона: «Как танцор, которого заставляют танцевать под .палками и бичами, не может выглядеть красивым, так и лошадь, обучаемая таким методом, не бывает красивой». Ксенофонт предостерегает действовать наказанием, когда молодая лошадь боится какого-либо предмета: «Если ее заставлять подходить к этому предмету ударами, она пугается еще больше. Ведь лошадь думает, будто наказание тоже исходит от пугающего предмета». В технике верховой езды собранная езда впервые появилась в Греции. До этого всадники воевали преимущественно на равнине, атаковали противника на полном ходу с опущенными поводьями. В горной каменистой местности эффективнее оказалась другая тактика: всадники сходились медленно, на расстояние до 15 метров от противника, бросали свои метатальные копья и скакали назад. Для этого явно была нужна собранная лошадь. Ксенофонт дает изображение соответственного постава головы и шеи коня: «...шея лошади должна идти до затылка по возможности прямо... так будет затылок на высоте глаз всадника... В таком положении лошадь не может таскать, будь она самой темпераментной, так как если лошади хотят таскать, они шею не сгибают, а выпрямляют ее». Степень сбора уже тогда умели довести до пассажа и пиаффе, и Ксенофонт дает прекрасное описание естественности пассажа «Если ты обучил коня ходить на легком поводу, он принимает гордую естественную осанку, поднимает высоко свой затылок, его шаги становятся выше, хвост держится высоко. Таким образом он показывает свою красоту и от такого величественного, горячего и привлекающего внимание поведения коня видно, что верховая езда для него удовольствие». Ксенофонт понял пользу езды по маленьким кругам (наш «вольт») для гибкости и равновесия лошади. Он даже менял ногу на галопе (неизвестно, как именно) и обучал лошадей этому на переходе с одного круга на другой (в середине «восьмерки»). Его взгляды близки к современным тем, что он не противопоставляет выездку и полевую езду, как делалось уже его современниками. Он упрекает греков, что они мало занимаются ездой по пересеченной местности и прыжками через каменные ограды, и советует в этом отношении брать пример у персов. На прыжках он рекомендует наклоняться при отталкивании вперед, на приземлении — назад. При обучении лошади прыжкам он пользовался помощником с бичом. Этот метод и теперь применяют некоторые всадники. Каждый современный тренер говорит начинающим: «Не сидите, как не стуле!» Этим мы повторяем слова Ксенофонта: «Я не советую сидеть, как на стуле, скорее сидите, будто стоя на расставленных ногах. Так вы имеете лучший контакт с лошадью и можете сильнее бросать копье...» Говоря о посадке, он считает правильным греческий обычай сидеть без одеял и подушек, которых персы «имеют на спинах своих лошадей больше, чем в своих постелях». Он понял стремление всадника сидеть как можно ближе к лошади для наилучшего контакта с ней. Выбор лошадей у Ксенофонта обусловлен особенностью езды без седла — сидеть глубоко и крепко было лучше на лошадях с низкой холкой, широкой мягкой спиной и толстой шерстью на спине. Высота их была 130—135 см. Лучшими считали лошадей тессалийской породы, преимущественно серой масти. Глубокие знания, переданные Ксенофонтом последующим поколениям, дали основание называть его и через две тысячи лет отцом искусства верховой езды. |
| Fefa |
[B] [COLOR=Navy] Киккули (Первые мастера тренинга и выездки)[/COLOR] [/B] В древнейших государствах на Ближнем Востоке — Вавилонии и Египте — около 3 тыс. лет до н. э. еще почти не знали лошадь. Например, в государстве Сумер, где было уже изобретено колесо и в повозки умели запрягать ослов и онагров, лошадь называли «ослом северных гор». Даже в известных законах Хаммурапи в Вавилонии XVIII века до н. э. лошадь вовсе не упоминается. Преимуществом лошади — ее скоростью — впервые научились пользоваться народы, которые жили на территории нынешней Турции и Ливана и входили в состав Хэттского союза народов. Они изобрели боевую колесницу, повлияв этим на окружающий мир так, что все II тысячелетие до н. э. иногда называют эрой боевых колесниц. На таких колесницах человек впервые мог двигаться быстрее, чем на собственных ногах. Скорость передвижения хэттского войска составляла 90—150 км в сутки. Понятно, что подготовка колесничных лошадей имела для хэттов огромное значение. От них дошло до нас первое иппологическое произведение, которое содержит и первый тренировочный план. Автором этого текста, написанного на глиняных табличках за 1350 лет до н. э., является начальник конюшен хэттского царя Хаттушили III, называвший себя Киккули из Митании (вассального государства в Хэттской империи). Для современного конника очень интересно сравнивать систему подготовки лошадей по Киккули с нынешними принципами построения тренировки. Но для этого надо обязательно учитывать разницу в целях и условиях. В военных походах самыми необходимыми качествами лошадей были выносливость на очень длинных дистанциях, способность переносить голод, жажду, жару. Не последнюю роль играла и стандартность всех лошадей. Поэтому никакой индивидуализации не знали. Такие тренеры, как Киккули, руководили подготовкой многих тысяч лошадей, не предназначенных для установления рекордов. Очень важными считали такие приемы, которые для спортивных лошадей даже вредны, например голодание, подвергание лучам жаркого солнца. Киккули готовил лошадей не для отдельного испытания или выступления, а для длительного периода походов. Чтобы все-таки сравнивать динамику и целенаправленность нагрузок его работы и современной подготовки к соревнованиям, мы рассматриваем 178-й день тренировок (максимум интенсивной нагрузки) как первое соревнование сезона. Вообще Киккули тренировал лошадей 186 дней, после этого их передавали армии. Сравнение подготовки по Киккули с методическими основами построения современной спортивной тренировки выявляет их удивительное сходство. Большие расхождения только в начальной стадии, которая не была собственно тренировкой, а являлась своеобразным испытанием, чтобы выбраковать слабых и закалить организм более сильных животных. Лошадей сразу же после их прибытия с пастбищ в первый день гнали 30 км рысью и 1680 м галопом, а на четвертый день — 12 км рысью и 12 км галопом. Такую нагрузку снова применяли только через пять месяцев тренировки. Следующий этап—потение. Лошадей держали 10 суток в жарко натопленных конюшнях под попонами, кормили минимально и купали несколько раз в день в реке. Затем 9 дней их совсем не трогали, но два последних дня отдыха они стояли без воды и корма, привязанные под горячим солнцем. Постепенное увеличение нагрузок до максимальных происходило с дистанции рыси 600 м и до 12 км, а на следующем этапе, состоящем из четырех микроциклов, дистанция на рыси достигала 30, 36, 42 и в четвертом микроцикле опять 42 км с максимальной нагрузкой 84 км рыси в седьмой день третьего микроцикла. Аналогично увеличивалась дистанция галопа: от 4,2 км, достигая максимума 26,2 км галопом и 16,2 км рысью в одну тренировку. Волнообразное изменение нагрузок имело в тренировке Киккули свое место как способ избежания переутомления. Между этапами усиленных тренировок вводились промежутки сниженных нагрузок; такие 1—2-дневные микроциклы состояли из легкой работы. Цикличность тренировочного процесса выражалась в построении макро- и микроциклов, имевших специальную направленность. Макроцикл увеличения объемной работы (рысь) длился 4 мес, как это предусмотрено и во многих современных методиках и для лошадей, и для легкоатлетов, если в году только один соревновательный период. Макроцикл увеличения интенсивной работы (удлинение дистанции галопа) был рассчитан на восемь недель. И современные тренеры по троеборью также советуют проводить работы галопом за 6—8 недель до соревнований. Микроциклы имели у Киккули особую структуру: при увеличении объема работы микроцикл состоял из 7—8 дней одинаковой тренировки; через два дня отдыха нагрузка увеличивалась скачкообразно. Этим организм, привыкший к определенной нагрузке, выводится из равновесия, чтобы потом опять обрести равновесие на более высоком уровне. При увеличении интенсивности подготовки микроциклы становились короче. Это, видимо, доказывает, что Киккули был знаком еще с одной особенностью спортивной тренировки — это трудная сочетаемость и противоположность развития выносливости и скорости. Он понял, что скоростная работа эффективнее в начале микроцикла, после отдыха, а большая объемная работа действует сильнее в конце микроцикла, на фоне утомления. Соотношение объема и интенсивности физических нагрузок у Киккули тоже правильно установлено. Сначала увеличивается объем, потом интенсивность. При сильном увеличении интенсивной работы объемную нагрузку сокращали (правда, общий суммарный объем уменьшался довольно мало). Это характерно как для целого тренировочного цикла, так и для шестинедельного и двухнедельного. Непосредственное подведение к «испытанию» у Киккули тоже совершенно современное: интенсивная нагрузка доходит до максимума за 11 дней до момента испытания, потом заметно снижается, и последняя скаковая работа проводится за 5 дней до него. В тренировочных планах современных троеборцев нагрузка уменьшается за 10—14 дней до соревнования, последняя скаковая работа обычно проводится за 4 дня до состязаний. Даже еще в более детальных вопросах мнения Киккули и современных тренеров совпадают. Например, Киккули знал уже двухразовую тренировку в день, а также интервальную работу. Он тренировал лошадей обычно (особенно при сильных нагрузках) в прохладное время — ночью. Скаковые тренеры всего мира работают рано утром уже с незапамятных времен. В тренировочном плане Киккули важное место занимают указания по кормлению лошадей. Интересно, например, что такая деталь, как микроциклы длиннее недели, которые у Киккули в большинстве составляли 8—10 дней, тоже нашли подражателей в наше время: австралийские троеборцы — победители Олимпийских игр 1960 года— применяли 10-дневные микроциклы как более подходящий ритм для высоких нагрузок. Наоборот, наша 5-дневная рабочая неделя привела к тому, что вполне нормальным считается полный отдых лошадей в деннике по воскресеньям, даже в период самых больших нагрузок. Киккули работал своих лошадей в дни отдыха 4—5 и даже 8 км рысью и 600 м галопом. Можно искать и находить еще много общего в работе Киккули и современных тренеров, и возникает вопрос, чем это объяснить—наследием хэттов или повторным открытием разумных принципов. Первое предположение связано с интересной, но недостаточно доказанной теорией, будто прародина кельтов — древних обитателей Британских островов, Франции и окрестностей Альп — находилась в хэттском государстве. Оттуда они двинулись на запад, по дороге возбудили фантазию греческих племен, никогда не видавших всадников, и родился миф о кентаврах. В Европу они принесли искусство изготовлять железное оружие и приручать лошадей. И они были последними, кто воевал на боевых колесницах. Даже если все это считать фантазией, сходство старой английской системы скакового тренинга с системой Киккули несомненно. Надолго сохранились и такие приемы, как потение, строгая диета. В Англии способом потения пользовались еще в XIX веке. |
| Fefa |
[B] [COLOR=Green] Д'Ор и Л'Отт (Основоположники современной верховой езды).[/COLOR] [/B] Основные принципы ФЕИ по выездке созданы как компромисс немецкой и французской школ выездки. Французская школа (или французский стиль классической школы) образовалась в основном в Сомюрской кавалерийской школе, самой влиятельной и старой (после Венской) школе верховой езды, В Сомюре занимались подготовкой офицеров для действующей армии, поэтому она имела 400 лошадей и там не ограничивались выездкой. Инструкторы и воспитанники школы прославились во всех видах конного спорта — сначала в прыжках в высоту и в стипль-чезах, потом в троеборье, преодолении препятствий, в выездке. Олимпийские чемпионы по выездке Лесаж (1932 год) и швед Сэн Сир (1952 и 1956 годы) были представителями этой школы. Традицией школы было принятие учеников и стажеров из других стран. Благодаря этому влияние Сомюрской школы было огромно, особенно в 35—50-х годах XX века. В Прибалтике еще живы некоторые конники, получившие там подготовку. Наиболее влиятельным, главным преподавателем Сомюра в середине XIX века был граф д'0р, талантливый всадник, получивший большую известность как решительный противник Бошэ. Граф д'0р родился в конце XVHI века. Борьбу против Бошэ он вел не с позиций старой Версайской школы и не во имя классической выездки. Наоборот, его методы отличались от классических еще больше, чем методы Бошэ. Главный лозунг д'0ра звучал так: «Вперед, вперед и еще раз вперед!». Он писал: «Чем больше вы преодолеваете сопротивление лошади, тем легче вы управляете ею при помощи поводьев, но настоящая верховая езда состоит не в уничтожении импульса лошади двигаться вперед, а в направлении этого импульса. В первом случае легче собрать и удержать лошадь, но зато возникают трудности, когда нужен быстрый аллюр». Ключ к искусству управления лошадью д'0р видел в ловкости и опыте всадника справиться с любой лошадью «такой, как она есть». Как это сделать, оставалось прежде всего делом интуиции, и импровизация ставилась выше системы подготовки. Д'0р был скупым на объяснения, он любил показать и требовать: «Делайте, как я делаю!». Для ускорения подготовки солдат часто сажали на незнакомых и недостаточно обученных лошадей и требовали выполнения всех разученных фигур, В езде разрешался любой стиль, лишь бы всадник справлялся с лошадью. Но д'0р строго следил, чтобы требования к лошади не превышали тех, что он требовал сам. Д'0р создал теоретическое обоснование «вытеснять одно сопротивление при помощи другого» для достижения требуемого движения. В конкретной механике движения это объяснялось как «противопоставление плеч лошади ее бедрам». Это означало и держать плечи прямо перед бедрами лошади, и движение лошади на поворотах «как лодка», т. е. без огибания по линии движения. Так, между прочим, в наше время управляют лошадью многие лучшие конкуристы мира, особенно на крутых поворотах с большого хода. Хотя д'0р видел свою цель в улучшении практической, прежде всего полевой езды и хотел упростить выездку лошади, он видел и опасность «небрежности», отказа от требований к лошади, чтобы та не оказывала сопротивления. Он не бросал классических упражнений, но современные критики упрекали его, что его лошади никогда не ходили хорошим пассажем. Д'0р открыл ценность прибавленных аллюров как нового элемента выездки. Ему принадлежит и описание правильного, т. е. естественного положения шеи и головы на этих аллюрах — удлинения и опускания шеи, вообще «удлинения рамки». В посадке д'0р заметно укоротил стремена и вместе с тем неустанно требовал «прогнуться в пояснице», чем заметно расходился с немецким «требовать поясницей». Окончательным создателем «французской школы» обычно считают все-таки генерала Л'0тта (1825—1904), который был главным преподавателем и командиром Сомюра, а потом, с 1886 года, — президентом комитета кавалерии. Л'0тт очень основательно изучал прежние методы, был учеником и личным другом обоих конкурирующих знаменитостей своей молодости — Бошэ и д'0ра. Богатый личный опыт выездки лошадей он запечатлел в дневнике, который вел 55 лет. Им написаны «Вопросы конного дела», «Воспоминания офицера кавалерии», а прежде всего он создатель Устава французской кавалерии 1876 года, где узаконены французские методы, а также впервые на континенте официально признается и требуется в кавалерии облегченная рысь. Л'0тт дал официальное признание и прибавленным аллюрам д'0ра как специальным упражнениям. В отличие от Бошэ он высоко ценил естественный импульс и ему принадлежит характеристика этого импульса, как «морального стремления идти вперед». А известный лозунг д'0ра он видоизменил и уточнил в своем известном принципе: «Спокойно, вперед, прямо!». В конце своей карьеры он отклонил кандидатуру Джеймса Филлиса на пост главного преподавателя Сомюра, заявив, что принимать метод одного человека значило бы «пренебрегать опытом многих веков», Сам он учился у всех, был против любых крайностей и умел пользоваться достоинствами всех методов. Особенно он ценил все-таки Бошэ и д'0ра. По его мнению, в полевой езде нужно учиться у д'0ра, а в высшей школе — у Бошэ. Но притом он был уверен, что «даже самая правильная методика не может гарантировать результата», и сравнивал верховое искусство с музыкой и с изобразительным искусством, где нужны «особенные способности восприятия». Роль обучения велика только в начальной стадии, и именно в создании системы начальных упражнений видел Л'0тт свою задачу и цель. Для укрепления спортивного направления в Сомюре много сделали командиры в период от первой до второй мировой войны. Например, Данлу ввел прыжковую посадку Каприлли в своем варианте, и во Франции до сих пор говорят о «посадке Данлу». Международное признание заслужил генерал Декапентри, начальник Сомюра (с 1926 по 1949 год), автор книги «Академическая выездка», председатель комиссии по выездке при ФЕИ с 1947 года. Им и Гюставом Pay из ФРГ совместно были созданы правила ФЕИ по выездке. Притом сохранилось существенное различие методов. Французы ставят выше импровизацию, роль личного мастерства всадника, красоту посадки, легкость и точность управления. В ФРГ ценят прежде всего систематичность, научность, правильность аллюров, способности лошади, сохранение естественности и спокойствия. Но идет время и методы выездки постепенно сливаются, взаимопонимание конников увеличивается. Метко сказал об этом уже Гюстав Pay: «Немецкий всадник приобрел более мягкие руки и не собирает так сильно лошадь, француз стал больше собирать лошадь и брать ее в повод». |
| Fefa |
[B] [COLOR=Teal]Гэриньер (Первые мастера тренинга и выездки) [/COLOR] [/B] К XVIII веку в искусстве верховой езды накопился уже огромный опыт. Разнообразие изобретений, трюков, приемов и методов порождало потребность критического анализа их и создания единой системы. Основы такой системы — так называемой классической школы верховой езды — изложил в книге «Школа кавалерии» (1773, Париж) Франсуа Робишон де ля Гэриньер (1688—1751). Он стал законодателем в искусстве верхо'вой езды в такой степени, что его произведение называлось «библией верхового искусства» и почитается и поныне в Венской испанской школе верховой езды. Хотя Гэриньера иногда называют представителем Версальской школы, он в Версале никогда не работал, а содержал частное училище в Париже с 1715 по 1730 год, затем возглавлял старый королевский манеж при дворце Тюильри. Но уже с 1715 года он носил звание «преподавателя верховой езды короля», и стиль выездки, развитый после Плювинеля версальскими мастерами де ля Балле, дю Плесси и учителем Гэриньера де Вандейлем, стал основой его учения. Это направление он защищал и укоренил как «золотую середину» между ускоренной, более искусственной дрессурой Ньюкэстла и отказом от сложной выездки вообще, которое распространялось сторонниками английской охотничьей езды. Кроме того, Гэриньер считал нужным и своевременным отстоять научное отношение к выездке: «Верховая езда может казаться единственным искусством, для изучения которого достаточно только упражняться. Но упражнение без знания основ науки верховой езды является все-таки голой рутиной, необходимым результатом которого будут бесцельная дрессировка и своего рода дешевая элегантность, чем можно обманывать только профанов». Выбор упражнений в книге Гэриньера — одно из главных достоинств. Мы не найдем здесь неестественных упражнений на трех ногах или с вытяжкой передних ног, зато описаны почти все современные упражнения высшей школы, а также семь школьных прыжков и подготовительные упражнения к ним, которые еще культивируются в Венской школе. Нововведениями Гэриньера были контргалоп, менка ног в воздухе и езда «плечами внутрь». Последнее стало ключевым упражнением классической школы, при помощи которого согнутой в боку лошади облегчают путь к высокой степени сбора, сохраняя при этом ее подвижность, гибкость и равновесие. Здесь проявляется основной принцип Гэриньера: развивать лошадь систематической гимнастикой от легкого к сложному. Освоение гармонии взаимопонимания всадника и лошади Гэриньер начал с новой конструкции седла. Он упразднил высокие подушки на передней и задней луках, у колен и седалища всадника, опустив его как можно ближе к спине лошади. Всадник уже не держался в седле силой ног, а сидел свободно на седалищных костях, амортизируя толчки лошади эластичным движением своей поясницы. Положение ног тоже изменилось: ноги были не выпрямлены вперед, а слегка согнуты в коленях, шенкель отведен чуть назад от вертикали и постоянно соприкасался с боком лошади. Так появилась «балансирующая» посадка, которая сохранилась до наших дней. Более чувствительная посадка сделала возможным и более тонкое упражнение. Увеличилась роль центра тяжести всадника, его поясницы и шенкелей вместо шпор и мундштуков. Гэриньер был первым, кто при обучении лошади отказался от сложных мундштуков с разными приспособлениями и стал часто применять трензель вместе с мундштуком, чтобы «не перегнуть» лошадь. В его книге впервые встречается выражение «гармония средств управления». Последовательность развития качеств обучаемой лошади Гэриньер выражал так: «гибкость, послушность, точность». Развитие гибкости производилось гимнастическими упражнениями, среди которых очень важным было «плечами внутрь», но на вольтах и кругах работали в основном только при начальной выездке и то больше на корде. Послушание лошади Гэриньер видит в новом аспекте — прав ли всадник. Он пишет: «Причинами непослушности лошади в основном являются недостаточные способности всадника, в меньшей степени — естественное несовершенство лошади. Непослушность может иметь три мотива: лошадь не понимает, что от нее требуется; лошадь не имеет соответствующих способностей; она не в состоянии достигать требуемого уровня. Если всадник силой требует непонятное, возникает сопротивление. Это само собой разумеется. В таком случае лучше сначала обучать лошадь, чтобы она знала ответ. Далее надо часто повторять упражнение, чтобы знание превратилось в привычку, и так достигается точное подчинение». Здесь, и вообще часто в мыслях Гэриньера проявляются важные принципы классической школы: вместо подавления сопротивления лучше его вовсе не вызывать; подчинение достигается путем привыкания, а не через борьбу с лошадью; выездка является не только обучением, но даже больше этого — физическим формированием лошади. Гэриньера позже упрекали, что он не учит, как именно должен всадник требовать от лошади выполнения разных упражнений, но его задачей было провозглашение общих правил. Однако он дал много отдельных советов и приемов, которые актуальны и сейчас. Он изобрел известный прием, который сам назвал «опустить перед»: всадник отдает полностью повод, проверяя сохранение осанки самой лошадью. Он подчеркнул ценность галопа, как прекрасного средства для расслабления напряженных мышц спины лошади, для обучения лошади искать хороший контакт с рукой всадника, для создания правильного дыхания. И до и после него многие всадники высшей школы очень мало ездили нормальным трехтактным галопом (кентером), боясь потерять максимальный сбор и подчинение. Гэриньер же высказал даже такую мысль: «На охоте лучше всего дать лошади скакать, как она сама хочет.» Правда, сам он в поле не ездил. Ему принадлежит и до сих пор оспариваемый тезис, что пассажу лошадь следует обучать только из пиаффе, а не раньше и другими способами. Он не считал это легчайшим путем, но требовал этого во избежание основных ошибок: аритмии пассажа и «парящего пассажа» с отставленным задом. Так он проявил еще одну мудрость классической школы — лучше вовсе не сделать упражнение, чем сделать это искаженно. Если до Гэриньера ведущие мастера выездки оставили нам отдельные интересные идеи, то наследие Гэриньера богаче: это основы современного понимания выездки как целостной системы. Величайшая заслуга Гэриньера — в совершенствовании искусства верховой езды на основе естественных движений лошади и путем изменения ее равновесия, а не через сложные сигналы и Рефлексы |
| Fefa |
[B] [COLOR=Navy]Бошэ (Основоположники современной верховой езды) [/COLOR] [/B] В развитии искусства верховой езды большую роль сыграл основатель высшей цирковой школы Франсуа Бошэ (1799—1873). Его выступления в цирке на Елисейских полях в Париже и многочисленные печатные произведения, посвященные искусству верховой езды, убеждали публику в том, что возможностей человека покорить себе лошадь намного больше, чем думали до него, что добиться сказочного успеха в верховой езде может каждый, кто вступает на правильный путь, указанный им, великим мастером. Апогеем славы Бошэ был случай с чистокровным четырехлетним жеребцом Жерико, считавшимся неуправляемым. Бошэ держал пари, что выездит эту лошадь за шесть недель. И действительно, в условленный день он ездил по арене цирка рысью и галопом, делал принимания, пируэты, менку ног на галопе и эффектно осаживал скакуна перед трибуной герцога Орлеанского. После этого осуществилась главная мечта Бошэ — его метод был принят на апробацию в армии—в нескольких маленьких частях кавалерии. Бошэ обещал, что, следуя его указаниям, каждый рекрут станет хорошим всадником через 45 дней и сможет сам начинать выездку (а выездка лошади до пиаффе и прыжков через препятствия длится два месяца). Но обещания известного мастера на деле не оправдались. Мало того, в армии обратили внимание на окровавленные сапоги «бошэристов», которые злоупотребляли шпорами. И когда в 1847 году главным преподавателем Сомюрской кавалерийской школы был назначен граф д'0р—решительный противник методов Бошэ,—последнему не оставалось ничего другого, как эмигрировать из страны. Огорченный Бошэ продолжал бороться с противниками, но к 1864 году он сам, во многом пересмотрев скоростные методы, стал выезжать лошадей только на трензеле, без острых шпор, и заявил, что теперь «ему мало шести месяцев, чтобы заставить лошадей идти прямо вперед». Словом, он в основном вернулся к классической школе. Но что же представлял собой метод Бошэ? Он считал, что выездка — это совершенное обладание всеми возможностями лошади. Такая абсолютная власть требует уничтожения малейшего сопротивления животного. Любое сопротивление лошади возникает из-за физических недостатков, которые создают ложное напряжение в ее мышечной системе, в цепи этого напряжения самым слабым звеном является челюсть, следовательно, выездку надо начинать со смягчения и сгибания челюсти, затем шеи, потом поясницы. Из этих общих принципов следует и последовательность упражнений: сгибания челюсти в руках, боковые сгибания шеи, когда лошадь находится под седлом на месте, прямые сгибания шеи, повороты на передних ногах, осаживание. Только после того, как лошадь при такой работе сделается мягкой в поводу, ее начинают посылать в движение, обязательно сохраняя легкость повода и вертикальное положение головы. В конюшне Бошэ основная подготовка лошади продолжалась 60 дней, работали два раза в день по 30 минут. Предметом высшей гордости для этого мастера были изобретенные им упражнения: рысь назад и галоп назад. Любил он демонстрировать упражнения на месте: переменное поднимание передних ног горизонтально вперед, пиаффе с остановкой на трех ногах, менка ног в один темп на галопе на месте. Это изобретение Бошэ сохранилось до наших дней. Надо сказать, что основные упражнения и методы Бошэ во многом противоречат идеям современных основ выездки, выработанных ФЕИ по принципам классической школы, и заслуживают критики. Так, цель выездки для Бошэ — не развитие естественных способностей лошади и гармония всадника и лошади, а абсолютное подчинение. Он считал, что лошадь должна быть пассивной машиной. Положение головы и шеи лошади должно гарантировать это подчинение, а не облегчать движение или сбор. Бошэ даже не признавал классического сбора с опусканием зада и поднятием переда и шеи, а считал важнее «абсолютное подбирание», то есть вертикальное положение головы лошади, сдача в шее при любом движении. Понимание биомеханики лошади у Бошэ вообще поверхностно, он почти не говорил о характере движений лошади и о сборе выражается туманно как о «собирании всех сил лошади в его центре». Правда, он считал, что равновесие его лошадей находится в некоей средней точке между точками равновесия у лошадей старой школы «которые слишком на заду», и у лошадей д'0ра, «которые слишком на переду». В практике он склонен был загонять задние ноги лошади далеко под корпус, так что они уже не могли сгибаться в скакательных суставах, но оставались прямыми. Это достигалось еще и тем, что голову и шею лошадь держала относительно низко. Спина ее должна была быть постоянно напряженно выгнутой, площадь опоры—минимальной. Такое равновесие не давало возможности лошади сопротивляться, но и не позволяло проявить свою силу в мощном движении. При этом облегчалось точное управление лошадью на месте и очень коротком расстоянии. Лошадь, как эквилибрист на канате, была ограничена в своих движениях. И в то же время Бошэ говорил о необходимости давать на многих упражнениях «перевес силам переда» и называл даже два вида пиаффе—на переду и на заду. Еще одна особенность равновесия по Бошэ—это то, что шея лошади как-будто нейтральна к равновесию, образуется так называемая «резиновая шея», которую всадник сгибает, не учитывая движение, а в «классической школе» говорится об «укреплении шеи в ее основании». Ход выездки Бошэ прямо противоположен классическому. Вместо длительного привыкания, формирования желательных физических качеств и навыков, способствующих взаимодействию лошади со всадником, Бошэ, подчиняя лошадь психически до того, как она была готова для этого физически, начинал с самых неестественных требований. Он считал своей главной заслугой ускорение выездки в 10—12 раз, но никогда и нигде не говорил о сроках службы своих лошадей. Такой методикой выездки Бошэ калечил лошадей психически больше, чем физически. Они скоро превращались в «отрешенных страдальцев» или, как писал современник Бошз, «его лошади выполняют все с точностью часового механизма, но делают это в состоянии смертельной тоски». Так как лошадей держали постоянно в искусственном равновесии между поводом и шенкелями, и любое движение выполнялось при помощи условных рефлексов, а врожденные при этом подавлялись, очень возрастало нервное напряжение лошадей и они становились сложными в обращении. Примером может служить свидетельство одного из учеников Бошэ о том, как он, этот ученик, уже довольно опытным всадником впервые садился на личную лошадь Бошэ—та без малейшего сигнала выполнила сразу п ируэт и стала осаживаться. Понятно, что такие лошади годились только на цирковую арену. Они могли быть хорошими в пиаффе, но трудно управляемыми на галопе. Бошэ даже вполне серьезно предложил ввести на ипподромах скачки, где выигрывает тот, кто придет к финишу последним—это означало бы, что победитель лучше всех управляет своей лошадью. Бошэ вообще не ценил хороших коней, искусство берейтора он видел в исправлении «порочных лошадей». Эту тенденцию увеличения до максимума роли всадника и берейтора и уменьшения роли лошади он выражает в такой фразе: «Удивляйтесь! Человек сделал больше, чем сама природа. Лошадь стала олицетворением всадника!». И все же деятельность Бошэ принесла некоторую пользу. Его искаженная, но иногда изумительно разультативная выездка заставила конников задуматься и улучшить классическую методику, которая в то время включала в себя только овладение крайне собранными движениями и была также негодна для поля, как и методика Бошэ. Она приняла в неумелых руках такие черты, как грубое замыкание повода, излишнее пользование разными приспособлениями, монотонность. Бошэ выше всего ставил легкость и отрицал применение любых механизмов. Ему принадлежат афоризмы, подчеркивающие эту сторону выездки: «Поводья без шенкелей, шенкеля без поводьев!»; «Не употребляй для управления тех сил, с помощью которых управляешь». Течение в современной выездке, которая требует больше внимания к легкости управления лошадью, искусству всадника правильно выполнять упражнения, имеет корни во Франции, где всегда было сильно влияние Бошэ. |